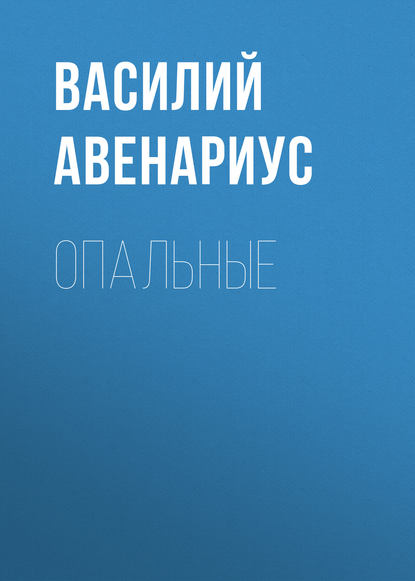По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опальные
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Затем, что без ножа вам голову сняли. Только слава одна, что боярские дети. Родитель опальный – и детки опальные. Не в деревне бы вам тут киснуть, небо коптить, а в Белокаменной состоять при государыне-царице, а потом в комнатных людях и при самом государе.
– В каких таких комнатных людях? – спросил Илюша.
– Неужели ты не слыхал про «комнатных», или «ближних», людей? – заметил брату Юрий. – Это – спальники и стольники: спальники раздевают, разувают государя в опочивальне, а стольники прислуживают ему за столом.
– Опосля же жалуются в рынды, в окольничие, в бояре! – досказал Кондратыч. – Да вот не задалось! Связала вам судьба-мачеха резвые крылышки…
– Ну, мы и сами себе их развяжем, взлетим не хуже твоего Салтана!
– И сокол выше солнца не летает. Аль не веришь? – отнесся старик-сокольник любовно к своему кречету, который, сидя у него на правой рукавице, в пунцовом бархатном «клобучке», в суконных «ногавках» (чулочках) и с серебряным колокольчиком в хвосте, гордо поводил кругом своими блестящими желтыми глазами. – Свет ты очей моих! Золотая головушка!
– Сам ведь точно понимает, что безмерно хорош! – восхитился и Юрий.
– Эх-ма! – вздохнул опять Кондратыч. – Кабы и тебя, соколик мой, еще разрядить в сокольничий убор да на руку дать тебе Салтана, за одно погляденье рубля бы не жаль!
– А что же, дедко, за чем дело стало? – вмешался в разговор Кирюшка. – У нас в оружейной палате есть совсем новенький сокольничий убор, и как раз, я чай, ему впору.
– Нишкни, баламут! Страху на тебя нет.
– И сами ужо добудем, – вполголоса заметил Кирюшка Юрию.
– Что? Что ты там опять намыслил, непутный? – вслушался дед. – Повтори-ка!
– Глухим двух обеден не служат.
– Ай, зубоскал! Смотри ты у меня: десятка два как засыплю…
Кирюшка в ответ только свистнул: давно уже перестал он верить угрозам добряка-деда.
Извилистая речка только что огибала выдающийся мысок. Тут из-за мыска раздалось отчаянное кряканье, и дикая утка с целым выводком утят шарахнулась с шумным плеском к берегу, заросшему осокой.
– Пусти Салтана, Кондратыч, пусти! – закричал Юрий.
Сам Салтан хищно встрепенулся и готов был сорваться со шнурка, на котором сдерживал его старый сокольник. Но последний неодобрительно покачал головой.
– Что ты, родной! Статочное ли дело – у малых деток убивать их мать-кормилицу! Вот постой, как попадется нам селезень али бодяга-цапля…
Точно по заказу, вспугнутая шумом весел и человеческими голосами, шагах в тридцати от лодки поднялась из прибрежных камышей цапля и с пронзительным криком понеслась низко над водой. Но спущенный сокольником со шнурка кречет, звеня своим серебряным колокольчиком, стрелой помчался уже за ней. Вот он ее нагоняет. Нанести длинноногой птице верный удар сзади, однако, нет возможности. И кречет прибегает к уловке: подбившись под цаплю, он заставляет ее волей-неволей взвиться выше. Она летит уже над лесом, а он обгоняет ее, взмывая вверх еще быстрее, и вдруг, свернувшись в комок, падает на нее стремглав, вцепляется в несчастную когтями и увлекает ее с собой вниз; оба скрываются за верхушками лесной чащи!
– Он ее растерзает! – завопил Илюша вне себя.
– На то он и ловчая птица, – отозвался Кондратыч. – А как он с ней расправится, сейчас увидим.
Говоря так, старик направил лодку к берегу, и все четверо поспешили к месту последней борьбы двух пернатых. Звяканье колокольчика и жалобные крики цапли безошибочно указывали им направление.
Среди кустарника в густой траве билась в предсмертных содроганиях цапля. На груди же ее сидел победоносно кречет и своим крючковатым клювом рвал ей с остервенением горло. При приближении людей, он окинул их злобным взглядом: «Чего, дескать, вам надо? Не мешайте!», после чего еще ожесточеннее затеребил бедную жертву, брызгая кругом кровью.
– Это ужасно! Отними же ее у него, Кондратыч, пожалуйста, отними! – умолял Илюша, отворачиваясь, чтобы только не видеть возмутительной картины.
Менее чувствительный Юрий не спускал глаз с Салтана, хотя в душе и его коробило; Кирюшка же, видимо, упивался кровожадностью кречета и удержал деда за рукав, когда тот протянул уже руку к Салтану.
– Нет, дедко, не трогай, он взял ее с бою.
– Правильно, – согласился старик, – он честно себе ее заработал.
– Честно, как разбойник! – воскликнул Илюша.
– Да разбойник разве не тот же вольный сокол? – возразил Кирюшка. – И я тоже, коли раз жить тут с вами наскучит, возьму дубину и пойду на большую дорогу.
– Ах ты, такой-сякой! – напустился на него дед. – Христа в тебе нет! Да лучше я сам из тебя дубиной душу вышибу!
– Ну, полно, старина! – вступился Юрий. – Не видишь разве, что он смеется? А вот что скажи-ка, будешь ты еще нынче иль нет охотиться с Салтаном?
– Буду ль, не буду ль, вам-то, ребятам, глядеть уже нечего, вдосталь на «разбойника» нагляделись.
– Да ведь до птичьей потехи и батюшка наш прежде охоч был, и сам государь, слышь, написал об ней целую книжку «Сокольничий Урядник».
– Ну, и ступай, и почитай ту книжку, куда больше ума-разума наберешься, чем от меня с Салтаном.
– Да разве она есть у нас в доме?
– Как не быть, чтобы у боярина нашего ее да не было!
– Но где же она у него? Не в оружейной же палате?
– Там-то вряд ли, книжек там никаких нету, – заметил Кирюшка. – Разве вот в книгохранилище, что в молельне.
– Наверное, что так! Сейчас пойдем туда и разыщем.
– Что ты, миленький! Без спросу? – возразил Кондратыч.
– Да ведь мы ее потом опять на место поставим. Гайда!
– А с лодкой-то как же? С Кирюшкой мне, что ли, назад пришлете?
– Да, хоть с Кирюшкой.
Переправясь обратно через речку, наши ветреники, однако, так и забыли уже про свое обещание старику, перелезли один за другим через забор в сад и боковой дорожкой незаметно добрались до дому.
Здесь будет кстати сказать пару слов о самой талычевской усадьбе.
Вся усадебная площадь, версты три в окружности, была обнесена кругом сплошным бревенчатым забором. Единственным в нем входом служили дубовые ворота с башенкой и с такой же иконой св. Георгия Победоносца, как и на воротах талычевских палат в Москве. Кроме главного господского дома с людскими избами, с большим плодовым садом и огородами, на усадебной площади были расположены всевозможные хозяйственные постройки: поварня, медоварня, винокурня, конюшня с кузницей и дворы скотный, птичий и сокольничий. Господский дом состоял, собственно говоря, из нескольких строений в три, в два и в одно жилье, возведенных в разное время, но соединенных между собой крытыми переходами. Срединное здание, в три жилья, с вышкой, имело крыльцо на столбиках и с прорезными перилами, а на наружных стенах здания и на ставнях окон были намалеваны доморощенным художником – нельзя сказать, чтобы очень уж искусно – разные звери, птицы и растения. К тому же некогда яркие краски успели значительно выцвесть и кое-где облупиться. Тем не менее, благодаря именно этой своеобразной живописи, здание выделялось довольно выгодно среди окружающих некрашеных строений и составляло немалую гордость всех талычевцев.
Наши мальчики, не желая быть замеченными, из садовой калитки не направились, конечно, к главному крыльцу, а шмыгнули в одно из боковых крылечек, откуда рядом переходов пробрались затем и в молельню.
Молельня, иначе «крестовая палата», была настолько обширна, что в ней в особых случаях совершались общие молебствия и для всех домочадцев. Обыкновенно же она служила только для утренних и вечерних молитв самому боярину.
В глубине молельни виднелся иконостас, задернутый по железному пруту зеленой шелковой пеленой с вышитым на ней золотым крестом. Когда при общих молебствиях пелена эта отдергивалась, то в верхнем поясе иконостаса являлись, по бокам Животворящего Креста, вделанные в стену два больших, старинного письма образа Богоматери и Апостола Иоанна Богослова, в нижнем же поясе – изображения двенадцати Страстей Христовых.