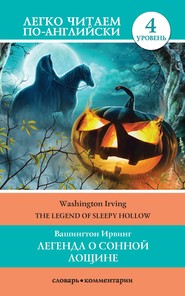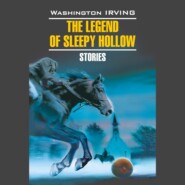По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Нью-Йорка
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ВИЛЬГЕЛЬМУС КИФТ, который в 1634 году взошел на губернаторское кресло (пользуясь излюбленным, хотя и неуклюжим выражением современных стилистов), был по фигуре, чертам лица и характеру полной противоположностью Воутеру Ван-Твиллеру, своему прославленному предшественнику. Он происходил из очень почтенной семьи; его отец был инспектором ветряных мельниц в древнем городе Саардаме; про нашего героя рассказывают, что еще мальчиком он производил очень занимательные исследования свойств и работы названных механизмов; и это является одной из причин, почему впоследствии он стал таким способным губернатором. Его фамилия, согласно утверждениям самых остроумных филологов, – это испорченное Кивер, то есть спорщик или крикун; она выражала наследственную склонность его семьи, которая почти два столетия давала жару жителям открытого всем ветрам городка Саардама и произвела на свет божий больше мегер и забияк, чем десять любых других местных семейств. И Вильгельмус Кифт настолько полно унаследовал семейные таланты, что не пробыл и года в должности губернатора, как стал повсюду известен под именем ВИЛЬЯМА УПРЯМОГО.
Это был проворный, раздражительный, маленький старый джентльмен, высохший и увянувший отчасти в результате естественного течения лет, а отчасти из-за того, что его поджаривала и иссушала огненная душа, которая подобно лучине пылала ярким пламенем в его груди, постоянно побуждая к самым доблестным ссорам, спорам и злосчастным приключениям. Мне пришлось слышать, как один глубокомысленный и философический знаток человеческой природы заметил, что если женщина к старости толстеет, то дальнейшее ее существование становится ненадежным, но если на свое счастье, она увядает, то живет вечно. Так же обстояло дело с Вильямом Упрямым, становившимся все более крепким, по мере того, как он высыхал. То был один из тех маленьких голландцев, каких мы иногда видим проворно шагающими по улицам нашего города, в кафтане с широкими полами и огромными пуговицами, почти не уступающими по величине щиту Аякса, играющему столь видную роль у господина Гомера, в старомодной треуголке, торчащей на затылке, и с тростью, доходящей ему до подбородка. Лицо у него было широкое, но с резкими чертами, нос задран кверху самым дерзким образом; его щеки, как почва Огненной Земли, были опалены до темно-красного цвета – без сомнения, вследствие соседства двух свирепых маленьких серых глаз, сквозь которые его пламенная душа сверкала таким же огнем, как тропическое солнце, сияющее сквозь два зажигательных стекла. Вокруг его рта залегали забавные складки, делавшие его лицо очень похожим на сморщенную морду раздражительной моськи. Короче говоря, он был одним из самых упрямых, беспокойных, уродливых человечков, которые постоянно злятся из-за пустяков.
Таковы были душевные качества Вильяма Упрямого, но к высокому званию и власти его привел бесспорно выдающийся ум. В юности он весьма успешно прошел курс наук в знаменитой Гаагской академии, известной тем, что она выпускала законченных буквоедов с небывалой быстротой; в этом отношении с ней могут сравниться только некоторые наши американские колледжи, производящие бакалавров искусств как бы с помощью патентованной машины. Там он очень ловко сражался на границах нескольких наук и совершил столь отважный набег в область мертвых языков, что захватил в плен кучу греческих существительных и латинских глаголов вместе с различными выразительными поговорками и апофегмами,[233 - Апофегма – краткое остроумное и поучительное изречение.] которыми постоянно щеголял в разговоре и в письмах, проявляя при этом такое же тщеславие, с каким победоносный генерал в древности выставлял напоказ трофеи из разграбленных им стран. Кроме того, он сам себя здорово запутал логикой, в которой зашел так далеко, что свел самое тесное знакомство, по крайней мере по имени, со всем семейством силлогизмов и дилемм. Но что больше всего ценил он в себе, это познания в метафизике; осмелившись однажды погрузиться в нее слишком глубоко, он чуть было в ней не задохнулся, окунувшись в трясину невразумительных учений и тем подвергнув себя страшной опасности; от последствий этих испытаний он никогда не мог полностью оправиться. Откровенно говоря, подобно многим другим глубокомысленным любителям совать нос в эту темную, сбивающую с толку науку, он, занимаясь отвлеченными рассуждениями, которых не мог постичь, и искусственной классификацией, в которой сам не мог разобраться, привел свои мозги в такое расстройство, что никогда уже на протяжении всей своей дальнейшей жизни не был в состоянии ясно мыслить ни о чем, даже о самых простых вещах. Должен признаться, что это было до некоторой степени несчастьем, ибо он, вступая в споры, которые очень любил, всегда прибегал к логическим дедукциям и метафизическому жаргону и быстро начинал блуждать в тумане противоречий, а затем распалялся сильнейшим гневом на противника за то, что тот не дал себя сразу убедить.
В науке, как и в плавании, тот, кто хвастливо резвится и барахтается на поверхности, подымает больше шума и брызг и привлекает больше внимания, чем трудолюбивый ловец жемчуга, погружающийся в поисках сокровищ на самое дно. «Всеобъемлющие таланты» Вильяма Кифта были предметом изумления и восторга его земляков; он держал себя в Гааге с таким же тщеславием, как глубокомысленный бонза в Пекине, овладевший половиной букв китайского алфавита, и был единодушно провозглашен всеобъемлющим гением! Я знавал на своем веку многих всеобъемлющих гениев, хотя, говоря откровенно, не знал ни одного, который в обычных житейских делах разбирался бы лучше, чем соломенное чучело; но для государственных дел человек хоть сколько-нибудь трезвых суждений и с простым здравым смыслом стоит любого блистательного гения, когда-либо писавшего стихи или создававшего новые теории.
Итак, сколь бы странным это ни могло показаться, всеобъемлющие таланты прославленного Вильгельмуса были ему помехой, и если бы он был менее ученым маленьким человечком, то, возможно, оказался бы гораздо более великим губернатором. Он чрезвычайно любил производить философские и политические опыты; набив себе голову отрывочными сведениями о древних республиках, олигархиях, аристократиях и монархиях, о законах Солона,[234 - Солон (638–559 до н. э.) – политический деятель древних Афин. В 594 г. до н. э. провел важные реформы, запрещавшие долговое рабство.] Ликурга[235 - Ликург – легендарный законодатель в Спарте, живший около IX в. до н. э. Ему приписывали составление законов, определявших экономический и политический строй спартанцев.] и Харондаса,[236 - Харондас – древнегреческий законодатель, живший в Сицилии около 650 г. до н. э. и сочинявший законы в стихах.] об идеальной республике Платона, о «Пандектах» Юстиниана[237 - Юстиниан I (486–565) – византийский император (527–565), издавший свод римского права, одна из частей которого называется «Пандекты».] и о тысяче других обломков почтенной древности, он всегда был готов ввести в употребление тот или иной из них. Поэтому, кидаясь от одной противоречивой меры к другой, он за то время, что находился у власти, втянул правительство маленькой провинции Новые Нидерланды в множество затруднительных положений, из которых не смогли выпутаться полдюжины его преемников.
Как только этот суматошный человечек дуновением судьбы был занесен в губернаторское кресло, он сразу же созвал совет и произнес с большим воодушевлением речь о делах провинции. Всем известно, какую блестящую возможность имеют губернатор, президент и даже император разгромить своих врагов в речах, посланиях и бюллетенях, которые никто не в состоянии опровергнуть, а потому не приходится сомневаться, что ретивый Вильям Кифт не упустил столь благоприятного случая проявить доблесть на словах, как это свойственно всем рьяным законодателям. Сохранились сведения, что перед началом речи он вытащил из кармана красный носовой платок из бумажной ткани и по принятому среди великих ораторов обыкновению очень звучно прочистил нос. По моему мнению, это делается преимущественно для того, чтобы, как сигнальной трубой, привлечь внимание слушателей; однако Вильям Упрямый утверждал, будто этот обычай мог похвалиться более классическим происхождением, ибо ему довелось прочесть о замечательном приеме известного демагога Гая Гракха,[238 - Гракх, Гай (153–121 до н. э.) – римский политический деятель, боровшийся против крупных землевладельцев за проведение аграрных законов в интересах италийского крестьянства.] который, обращаясь с речью к римскому народу, модулировал звук своего голоса с помощью ораторской флейты, или камертона; «это, – говорил проницательный Вильгельмус, – я считаю не чем иным, как изящным и иносказательным способом выразить, что он предварительно прочищал свой нос».
После того, как вступительная симфония была исполнена, Вильям Кифт начал со смиренных сетований на отсутствие у него талантов, на то, что он совершенно недостоин оказанной ему чести и самым жалким образом неспособен выполнять важные обязанности, связанные с его новым положением. Одним словом, он высказал о себе чрезвычайно низкое мнение, и многие из простодушных деревенских членов совета, не ведая, что это были, разумеется, только слова, всегда произносимые в таких случаях, почувствовали большое беспокойство и даже обозлились из-за того, что он согласился занять пост, для которого сам считал себя явно не подходящим.
Затем в безукоризненно классической манере, проявляя глубокую ученость, он ни к селу, ни к городу перешел к напыщенному описанию всех форм правления в древней Греции и войн между Римом и Карфагеном, а также к истории возвышения и падения различных чужеземных империй, о которых собравшиеся знали не больше, чем их еще неродившиеся правнуки. Итак, убедив, по примеру наших ученых ораторов, слушателей в том, что за словом в карман не полезет и обладает большими познаниями, он, наконец, приступил к менее важному разделу своей речи – положению провинции; тут он вскоре довел себя до полного неистовства, ругая янки, которых сравнил с галлами, разрушившими Рим, с готами и вандалами, опустошившими плодороднейшие равнины Европы. Он не забыл упомянуть, притом в надлежащих оскорбительных выражениях, о той дерзости, с какой янки захватили земли Новых Нидерландов, и о беспримерном нахальстве, с которым они начали строительства города Нью-Плимут и развели уэтерсфилдские луковые плантации под самыми стенами, или вернее земляными батареями форта Гуд-Хоп.
Искусно доведя слушателей своим страшным рассказом до наивысшего напряжения, Вильям Кифт напустил на себя самодовольный вид и заявил, многозначительно кивнув, что он принял меры к тому, чтобы положить конец этим захватам, что он был вынужден прибегнуть к недавно изобретенной ужасной военной машине, применение которой приводит к страшным последствиям, но оправдано злой необходимостью. Короче говоря, он решил победить янки – посредством послания!
С этой целью он изготовил соответствующий грозный документ, в котором упомянутым выше захватчикам приказывалось, повелевалось и предписывалось немедленно уйти, удалиться и ретироваться из упомянутых выше округов, районов и областей под страхом подвергнуться всем установленным для подобных случаев карам, штрафам и наказаниям, и т. д. Это послание, уверял он собрание, сразу же сотрет врага с лица их земли, и он поручился честью губернатора, что через два месяца после обнародования послания ни в одном из построенных янки городов не останется камня на камне.
Когда он кончил, члены совета некоторое время хранили молчание; то ли они онемели от восхищения, пораженные его блестящим проектом, или же были усыплены длинной речью, об этом история тех времен умалчивает. Достаточно будет сказать, что в конце концов они единодушно проворчали свое согласие, и послание было немедленно отправлено с соблюдением всех необходимых формальностей, то есть с привязанной к нему широкой красной лентой большой правительственной печатью, по величине не уступавшей гречишному блину. Губернатор Кифт, дав таким образом выход своему негодованию, почувствовал огромное удовлетворение, распустил совет sine die,[239 - Не назначив дня следующего заседания (лат.).] надел треуголку и штаны из полосатого бумажного бархата и, взобравшись на высокого, тощего строевого коня,[240 - …треуголку и штаны из… бархата… тощего строевого коня… Современники Ирвинга усматривали в этом описании черты сходства с президентом Т. Джефферсоном.] пустился рысью к своему загородному дому, который был расположен на прелестном уединенном болоте, ныне называемом Датч-стрит,[241 - Датч-стрит – по-английски «Голландская улица».] но более известном как Догс-мизери.[242 - Догс-мизери – по-английски «Собачья напасть».]
Теперь, подобно доброму Нуме Помпилию[243 - Нума Помпилий (715–672 до н. э.) – второй римский царь, которого, согласно легенде, нимфа Эгерия учила искусству управления.] и, он предался отдыху от законодательных трудов, беря уроки управления не у нимфы Эгерии, а у своей почтенной супруги, принадлежавшей к числу тех особых женщин, что были посланы на землю вскоре после потопа в наказание за грехи человечества и обычно назывались осведомленными женщинами. Мой долг историка обязывает меня довести до сведения читателей обстоятельство, которое оставалось в свое время большой тайной и, следовательно, было предметом застольных сплетен не более, как в половине домов Нового Амстердама, но подобно многим другим великим тайнам с течением лет выплыло наружу. Я имею в виду то, что великий Вильгельмус Упрямый, хотя он и был самым могущественным из всех маленьких человечков, появлявшихся на свет божий, у себя дома подчинялся тому виду власти, о котором не упоминают ни Аристотель, ни Платон. Коротко говоря, эта власть носила характер чистейшей тирании и в просторечии называлась бабьим царством. Подобного рода абсолютная власть, хотя в наши дни и встречается чрезвычайно часто, в древности была очень редка, насколько можно судить по шуму, поднятому из-за семейных порядков у честного Сократа,[244 - Сократ – см. примечание 28, гл. II, кн. первая. Жена Сократа Ксантиппа отличалась сварливым и неуживчивым нравом.] представляющих единственный дошедший до нас древний случай.
Впрочем, великий Кифт парировал все насмешки и сарказмы своих близких друзей, всегда готовых посмеяться над человеком по такому щекотливому поводу, парировал ссылкой на то, что он сам выбрал эту власть и подчинялся ей по собственной воле; одновременно он добавлял, что у одного древнего автора нашел глубокомысленное изречение: «Кто стремится властвовать, должен сперва научиться повиноваться».
ГЛАВА II
В которой рассказывается о мудрых проектах всеобъемлюще гениального правителя. – Об искусстве вести войну с помощью посланий и о том, как доблестный Якобус Ван-Кюрлет в конце концов был гнусно обесчещен в форте Гуд-Хоп.
Придуманный новым губернатором способ нанести поражение янки с помощью послания был самым действенным, самым быстрым и, что еще лучше, самым дешевым и в то же время таким человеколюбивым, мягким и мирным. Десять шансов против одного было за то, что он будет иметь успех; но был все же один шанс из десяти за то, что он окажется безуспешным. И злокозненные Парки[245 - Парки – см. примечание 5, гл. I, кн. пятая.] пожелали, чтобы именно этот единственный шанс взял верх! Послание было во всех отношениях превосходным: хорошо составлено, хорошо написано, хорошо скреплено печатью и хорошо обнародовано; для обеспечения его действия не хватало одного, а именно, чтобы янки испугались. Однако, как это ни досадно, они отнеслись к нему с полным презрением, использовали его для непристойной цели, которой я не стану называть, и таким образом первое послание, призванное заменить военные действия, постиг бесславный конец – судьба, выпавшая, как мне достоверно известно, на долю слишком многих последующих попыток такого же рода.
Прошло много времени, прежде чем соединенными усилиями всех советников удалось убедить Вильгельмуса Кифта в том, что его военная мера не дала никаких результатов. Он впадал в ярость, когда кто-нибудь осмеливался усомниться в действенности его послания; он клялся, что оно, хотя его влияние сказывается не сразу, все же сделает свое дело, и страна вскоре будет очищена от хищных захватчиков. Однако время, этот пробный камень для всех опытов как в области философии, так и политики, в конце концов убедило великого Кифта в том, что его послание не имело успеха; хотя он, пребывая в состоянии непрерывного раздражения, прождал почти четыре года, все же от цели своих стремлений он находился ныне еще дальше, чем когда бы то ни было. Его непримиримые враги на востоке все сильней и сильней докучали своими вторжениями и основали преуспевающую колонию Хартфорд у самого форта Гуд-Хоп. Больше того, они приступили к постройке славного поселка Нью-Хейвен (иначе Ред-Хиллс) во владениях Высокомощных Господ, а луковые плантации Пайкуэга были по-прежнему бельмом на глазу для гарнизона Ван-Кюрлета. Итак, поняв бесполезность предпринятого им шага, мудрый Кифт, подобно многим почтенным врачам, обвинил не лекарство, а введенную больному дозу, и смело решил ее удвоить.
Итак, в 1638 году, на четвертом году своего правления, он обнародовал против янки второе послание, более крупного калибра, чем первое, написанное громоносными длинными фразами, каждое слово в которых имело не меньше пяти слогов. В сущности, это было нечто вроде закона о прекращении сношений: он, запрещая и возбраняя всякую торговлю и всякие связи между всеми упомянутыми захватчиками-янки и упомянутым укрепленным постом – фортом Гуд-Хоп, предписывал, приказывал и советовал всем верным, честным и возлюбленным подданным не снабжать янки джином, коврижками и кислой капустой, не покупать у них иноходцев, трихинозной свинины, яблочной водки, рома, сидра, яблочной пастилы, уэтерсфилдского лука и деревянной посуды, а морить их голодом и стереть с лица земли.
Прошло еще двенадцать месяцев, в течение которых второе послание[246 - …второе послание… – Ирвинг сатирически изображает закон об эмбарго, введенный президентом Т. Джефферсоном (22 декабря 1807 г.), по которому запрещался экспорт любых товаров из США как по морю, так и через сухопутную границу.] привлекло такое же внимание и испытало такую же участь, как и первое. К концу этого срока доблестный Якобус Ван-Кюрлет отправил своего ежегодного гонца с обычной сумкой жалоб и просьб. Объяснялся ли регулярный годичный промежуток, протекавший между прибытиями посланца Ван-Кюрлета, той методической правильностью, с какой он передвигался, или огромностью расстояния между фортом и резиденцией правительства, – сказать трудно. Некоторые приписывали это явление медлительности гонцов, которых, как я упоминал выше, выбирали из числа самых низкорослых и самых жирных воинов гарнизона, полагая, что у них меньше всего шансов умереть в пути от истощения; страдая одышкой, они обычно проезжали за день пятнадцать миль, а затем делали остановку на целую неделю, чтобы отдохнуть. Впрочем, все это одни предположения, и я думаю, что указанное обстоятельство может быть приписано бессмертному правилу нашей достойной страны, всегда оказывавшему влияние на ход государственных дел, – ничего не делать в спешке.
Доблестный Якобус Ван-Кюрлет в своем донесении почтительно указывал, что прошло уже несколько лет с тех пор, как он впервые обратился к покойному его превосходительству, прославленному Воутеру Ван-Твиллеру; за это время его гарнизон уменьшился почти на одну восьмую вследствие смерти двух из самых храбрых и дородных солдат, которые случайно объелись жирным лососем, выловленным в реке Варсхе. Далее он сообщал, что враги продолжают свои набеги, не обращая внимания на форт и на его жителей; они селятся на захваченных землях и повсюду вокруг него создают поселения, так что в скором времени он, Ван-Кюрлет, окажется окруженным и осажденным врагами и всецело в их власти.
К числу самых горьких жалоб на нанесенные ему обиды можно отнести следующее, обнаруженное мною в архиве послание, которое показывает кровожадную гнусность этих свирепых захватчиков: «Тем временем люди из Хартфорда не только заняли и присвоили земли Коннектикота, противно закону и международному праву, но и воспрепятствовали нашему народу засеять его собственную, купленную и вспаханную землю и сами ночью засеяли маисом те земли, которые жители Новых Нидерландов вспахали и намеревались засеять; они палками и рукоятками плугов избили слуг высокочтимой почтенной компании, трудившихся на хозяйской земле, искалечили их зверским образом и прогнали с полей; среди всего прочего они палкой пробили Эверу Докингсу[247 - Это имя, несомненно, искажено. В некоторых старинных голландских рукописях того времени мы находим имя Эверта Дойкинга, бесспорно являющегося тем злосчастным героем, о котором упоминается выше.] дыру в голове, так что кровь очень сильно текла и стекала по его телу!».
А вот еще более горестная жалоба:
«Люди из Хартфорда продали принадлежавшую почтенной компании свинью под тем предлогом, что она паслась на их земле, тогда как у них нет ни фута наследственных владений. Они предлагали вернуть свинью за 5 шилл. – чтобы представители компании уплатили 5 шилл. за потраву; но представители компании это отклонили, ибо ни одна свинья (как принято говорить) не может совершить потравы на участке собственного хозяина[248 - Has. Col. State Pass.*«Хазардовское собрание исторических документов»]».
Получение этого печального известия вызвало гнев всей общины; в нем было что-то, что взывало ко всем умам и затрагивало даже притупившиеся чувства могущественной черни, которой обычно требуется пинок в зад, чтобы в ней пробудилось дремлющее сознание собственного достоинства. Я был свидетелем того, как мои глубокомысленные сограждане безропотно переносили тысячу существенных нарушений их прав только потому, что эти нарушения не были для них сразу же очевидными; но как только несчастный Пирс был убит на наших берегах, все государство пришло в движение. Так просвещенные нидерландцы, почти не обращавшие внимания на вторжения восточных соседей и предоставившие своему отважному писаке-губернатору одному нести все тяготы войны, пуская в ход только свое перо, теперь все без исключения почувствовали, что и их голова разбита, коль скоро разбита голова Докингса, а злосчастная судьба их согражданки-свиньи, которая была схвачена силой, уведена и продана в рабство, исторгала сочувственное хрюканье из каждой груди.
Губернатор и совет, подстрекаемые криками толпы, принялись всерьез обсуждать, что следует предпринять. Послания были, наконец, временно забракованы. Некоторые стояли за то, чтобы отправить янки подарки, как это мы делаем, предлагая мир мелким варварским государствам, или, подобно тому, как индейцы приносят жертву дьяволу. Другие стояли за то, чтобы откупиться от них, но это встретило возражения, так как означало бы признание за ними прав на захваченную землю. Как всегда в таких случаях, было предложено, обсуждено и отвергнуто множество мер. И совету в конце концов пришлось принять решения, которыми, хотя они «были самые обычные и очевидные, прежде сознательно пренебрегли, ибо наши изумительно проницательные политики всегда смотрят в телескопы, что дает им возможность видеть только далекие и недостижимые предметы, но препятствует видеть то, что находится в пределах досягаемости «является очевидным для всех простых людей, довольствующихся тем, что смотрят невооруженным глазом, данным им небесами. Глубокомысленный синклит, как я уже сказал, в своей погоне за блуждающими огоньками случайно наткнулся на то самое решение, которое было необходимо: собрать воинский отряд и отправить его на выручку и усиление гарнизона. Эту меру осуществили так быстро, что меньше чем через год экспедиционный корпус, состоявший из сержанта и двенадцати солдат, был готов выступить в поход, и ему устроили смотр на городской площади, ныне известной под названием Боулинг-Грин. Как раз в эту последнюю минуту вся община была повергнута в изумление неожиданным прибытием доблестного Якобуса Ван-Кюрлета, вступившего в город во главе беспорядочной толпы оборванцев и принесшего печальное известие о своем поражении и захвате свирепыми янки грозного форта Гуд-Хоп.
Судьба этой важной крепости может служить поучительным предупреждением для всех военачальников. Она была взята не штурмом и не измором; пушки и мины не сделали бреши в стенах, через которую могли бы ворваться осаждающие; пороховые склады не были взорваны калеными ядрами, казармы не были разрушены и гарнизон не был уничтожен разрывами бомб. На самом деле крепость пала в результате столь же странной, сколь и действенной военной хитрости, всегда приносящей успех, если только представляется случай ее применить. Я счастлив, имея возможность добавить, к чести наших знаменитых предков, что это была такая военная хитрость, которая, хотя и ставит под сомнение бдительность бесстрашного Ван-Кюрлета и его гарнизона, все же ни в коей мере не дает оснований заподозрить их в недостатке храбрости.
По-видимому, коварные янки, изучив неизменные привычки гарнизона, дождались благоприятного случая и в середине знойного дня потихоньку вошли в форт; его бдительные защитники, по горло насытившись плотным обедом и выкурив трубку, все до единого громко храпели на своих постах, и никому из них даже во сне не привиделась столь страшная возможность. Враги самым бесчеловечным образом схватили Якобуса Ван-Кюрлета и его отважных мирмидонян за шиворот, любезно проводил их до ворот форта и отпустили, угостив каждого пинком в мягкую часть, как отпустил Карл XII после битвы при Нарве[249 - Битва при Нарве – в 1700 г. русские войска Петра I потерпели поражение под Нарвой от шведского войска Карла XII.] толстозадых русских. Только Ван-Кюрлет, в знак особого отличия, получил два пинка.
Форт немедленно был занят сильным гарнизоном, состоявшим из двадцати долговязых янки с крепкими кулаками; на их шляпах, вместо кокард и перьев, торчал уэтерсфилдский лук, длинные ржавые охотничьи ружья заменяли им мушкеты, их запасы продовольствия состояли из кукурузного пуддинга, рыбы, свинины и патоки. Огромная тыква была водружена на длинный шест в качестве флага, так как колпак свободы тогда еще не вошел в моду.
ГЛАВА III
Содержащая описание страшного гнева Вильяма Упрямого и великой скорби новоамстердамцев по поводу событий в форте Гуд-Хоп. – А также о том, как Вильям Упрямый укрепил город трубачом, флагштоком и ветряной мельницей, и о подвигах Стоффеля Бринкерхофа.
Человеческая речь не в силах передать неистовую ярость, в которую впал упрямый Вильгельмус Кифт, узнав эту оскорбительную новость. Добрых три часа бешенство маленького человечка было слишком велико, чтобы он мог вымолвить хоть слово, или, вернее, слова были слишком велики для него, и он чуть не задохнулся от дюжины ужасных, безобразных, девятиэтажных голландских ругательств, которые все сразу столпились в его глотке. К счастью, несколько крепких ударов кулаком по спине спасли его от удушья и выпихнули из него два-три бушеля чудовищных проклятий, самым мягким из которых было «Разрази их всех господь!» Все присутствовавшие удивлялись, как такое маленькое тело могло вместить такую огромную массу слов, не лопнув. Сверкнув первым залпом, он продолжал без перерыва палить целых три дня, предавая анафеме янки – мужчин, женщин и детей со всеми их потрохами, обозвав их шайкой dieven, schobbejaken deugenieten, twist-zoekeren, loozen-schalken blaes-kaeken, kakken-bedden[250 - Воров, мошенников, бездельников, задир, хитрых толстощеких плутов и зас…в (голл.).] и еще тысячью других бранных слов, о которых, к несчастью для потомства, в истории не сохранилось особых упоминаний.
Наконец он поклялся, что больше не будет иметь дела с этой бандой проходимцев: пусть себе захватывают чужую землю, спят, не раздеваясь, в одной постели, обо всем назойливо расспрашивают, дерутся, питаются тыквами, пачкаются патокой, колют дранку, разбавляют водой сидр, барышничают, торгуют вразнос всякой мелочью, пусть остаются в форте Гуд-Хоп и гниют там, а он не станет марать руки и пытаться выгнать их оттуда. В подтверждение этого он приказал новобранцам немедленно двинуться на зимние квартиры, хотя было еще только начало лета. Губернатор Кифт честно сдержал свое слово, а его противники столь же честно удержали захваченный ими пост. Таким образом, славная река Коннектикут и все веселые долины, по которым она протекает, вместе с лососями, сельдями и прочими рыбами, водящимися в ее водах, очутилась в руках победоносных янки, владеющих ими и по сей день – да пойдет это им на пользу.
В результате столь печальных событий великое уныние охватило Новый Амстердам. Слово «янки» стало для наших славных предков таким же страшным, как слово «галл» для древних римлян; и все мудрые старухи провинции Новые Нидерланды, не читавшие книги мисс Гамильтон[251 - Мисс Гамильтон, Элизабет (1758–1816) – шотландская писательница, автор популярного в свое время филантропического романа «Фермеры Гленберна» (1808).] о воспитании, пользовались им как пугалом, чтобы стращать и принуждать к повиновению своих непослушных сорванцов.
Взоры всей провинции были теперь обращены на губернатора; все хотели знать, что он собирается предпринять для защиты государства в эти печальные и тревожные дни. Рассудительных людей в общине, в особенности старух, одолевали великие опасения, как бы эти ужасные молодчики из Коннектикута, не удовлетворившись завоеванием форта Гуд-Хоп, не двинулись сразу в поход на Новый Амстердам и не взяли его штурмом. И так как эти старые леди при посредстве супруги губернатора, которая, как мы уже намекали, была в доме «первой скрипкой», приобрели значительное влияние в общественных делах, превратив всю провинцию в своего рода бабье царство, то было решено, что следует принять действенные меры к укреплению города.
Случилось так, что в ту пору в Новом Амстердаме проживал некий Антони Ван-Корлеар,[252 - Давид Пьетрес де Фриз в своем «Reyze naer Nieuw Nederlandt onder het yaer 1640» упоминает о некоем Корлеаре, трубаче в крепости Амстердам, по имени которого назван Корлеарс-Хук и который являлся, без сомнения, тем самым героем, что описан мистером Никербокером.*«Путешествии в Новые Нидерланды примерно в 1640 году»] бравый и широколицый, веселый, толстый трубач-голландец, знаменитый своими могучими легкими и густыми бакенбардами. Он, как утверждает история, извлекал из своего инструмента пронзительные звуки такой мощи, что всем, до чьего слуха они доходили, казалось, будто десять тысяч волынок зараз гнусавили изо всей силы. Его-то и избрал знаменитый Кифт, как самого подходящего во всем мире человека, для того, чтобы быть защитником Нового Амстердама и нести гарнизонную службу на его укреплениях; он нисколько не сомневался, что музыкальный инструмент Ван-Корлеара сыграет столь же действенную роль в войне, призывая к наступлению, как и труба паладина Астольфо[253 - …труба паладина Астольфо… – волшебный рог английского рыцаря Астольфо, подаренный ему волшебницей Логистиллой, обращал в паническое бегство всех, кто его слышал (Ариосто. Неистовый Роланд, XV, 14–15).] или более классический рог Алекто.[254 - Алекто – одна из фурий, вызвавшая Троянскую войну (Вергилий. Энеида, VII).] Любо было смотреть, как губернатор в восхищении щелкал пальцами и суетился, когда его смелый трубач расхаживал по крепостному валу, бесстрашно бросая звуки своей трубы в лицо всему свету, подобно тому, как доблестный издатель отважно поносит все власти предержащие, – находясь по другую сторону Атлантического океана.
Но Вильям Кифт не довольствовался таким усилением гарнизона своей крепости, он существенно укрепил ее также тем, что воздвиг грозную батарею деревянных пушек, установил в центре высоченный флагшток, возвышавшийся над всем городом, и, кроме того, построил огромную ветряную мельницу[255 - …ветряную мельницу… – здесь и далее Ирвинг вспоминает о сражении Дон Кихота с ветряными мельницами.] на одном из бастионов.[256 - Де Фриз говорит, что эта ветряная мельница стояла на юго-восточном бастионе; она, так же, как и флагшток, изображена на «Виде Нового Амстердама» Юстуса Данкера, который я взял на себя смелость предпослать истории мистера Никербокера. – Издатель.] Конечно, последняя была до некоторой степени новинкой в фортификационном искусстве, но, как я уже упоминал, Кифт славился своими нововведениями и опытами; предания утверждают, что он очень любил заниматься изобретениями в области механики, создавал патентованные вертелы, приводимые в движение дымом, и телеги, шедшие впереди лошадей; больше всего нравилось ему строить ветряные мельницы, к которым он приобрел особое пристрастие в своем родном городе Саардаме.
Эти научные причуды маленького губернатора с восторгом превозносились его приспешниками как доказательство его всеобъемлющей гениальности. Однако не было недостатка и в злобных ворчунах, бранивших Кифта за то, что он тратит свои умственные способности на всякие пустяки и посвящает вертелам и ветряным мельницам то время, которое следовало бы использовать для более важных забот о делах провинции. Больше того, они зашли даже так далеко, что несколько раз намекали, будто у него вскружилась голова, и он на самом деле решил управлять страной как своими мельницами – просто с помощью ветра![257 - …с помощью ветра – английский каламбур: wind означает «ветер» и «болтовня».] Таковы неблагодарность и злословие, всегда выпадающие на долю наших просвещенных правителей.
Несмотря на все меры, принятые Вильямом Упрямым для приведения города в такое состояние, чтобы он мог защищаться, жители продолжали пребывать в большой тревоге и унынии. Но рок, который, по-видимому, всегда успевает в самый последний момент бросить кость надежде, чтобы поддержать в живых ее умирающий с голоду дух, в это время увенчал славой оружие Новых Нидерландов в другом конце страны и таким образом укрепил поколебавшееся мужество несчастных жителей. Если бы не это, трудно сказать, до чего дошли бы они в своей безмерной скорби, «ибо печаль, – говорит глубокомысленный автор жизнеописания семи защитников христианства, – подруга отчаяния, а отчаяние пособник позорной смерти!»
Среди многочисленных поселений, захваченных коннектикутскими разбойниками, причинившими за последнее время столько великих бед, следует, в частности, упомянуть то, которое было основано на восточном берегу Лонг-Айленда, в месте, названном из-за своих превосходных моллюсков Устричной бухтой. Это вторжение нанесло удар в самое чувствительное место провинции и вызвало сильное волнение в Новом Амстердаме.
Дорога к сердцу лежит через желудок – таков бесспорный закон, хорошо известный нашим опытным физиологам. Это обстоятельство может быть объяснено теми же причинами, о которых я уже упоминал в рассуждениях о тучных олдерменах. Впрочем, оно широко известно, и из него мы видим, что самый верный способ завоевать сердца миллионов людей – это кормить их как следует, и что человек всегда бывает расположен льстить, угождать и служить другому, если тот кормит его за свои счет. Такова одна из причин, почему у наших богачей, часто устраивающих званые обеды, такое обилие искренних и преданных друзей. Основываясь на том же положении, ловкие вожаки наших политических партий обеспечивают себе любовь своих сторонников, щедро вознаграждая их земными благами, и ловят на выборах голоса грубой черни, угощая ее боем быков и бифштексами. В этом самом городе я знавал много людей, которые приобрели значительный вес в обществе и пользовались большой благосклонностью сограждан, хотя единственное, что могли сказать им в похвалу, было: «Они давали хорошие обеды и держали прекрасные вина».
Если же сердце и желудок столь тесно связаны, то из этого с несомненностью следует, что все, что затрагивает одно, должно, в силу симпатической связи, затронуть и другое. В равной мере бесспорно и то обстоятельство, что из всех приношений желудку с наибольшей благодарностью принимается черепокожное морское животное, именуемое натуралистами ostea, но в просторечии известное под названием устрицы. И мои прожорливые сограждане питали к ним такое большое почтение, что испокон веков посвящали им храмы на каждой улице и в каждом переулке по всему нашему сытому городу. Поэтому нельзя было ожидать, чтобы жители Нового Амстердама стерпели захват Устричной бухты, изобиловавшей их любимым лакомством. Они могли извинить оскорбление, нанесенное их чести, могли обойти молчанием даже убийство нескольких граждан, но посягательство на кладовые великого города Нового Амстердама и угроза желудкам его дородных бургомистров были слишком серьезны, чтобы остаться неотомщенными. Весь совет единодушно сошелся на том, что захватчики должны быть немедленно изгнаны силой оружия из Устричной бухты и соседних с ней мест; с этой целью был отправлен отряд под командованием некоего Стоффеля Бринкерхофа или Бринкерхоофда (то есть Стоффеля, разбивающего головы), названного так потому, что он был человеком великих подвигов, прославившимся по всей провинции Новые Нидерланды своим искусством в обращении с дубиной, а ростом мог бы потягаться с Колбрандом, знаменитым датским богатырем, убитым маленьким Гаем из Варвика.[258 - Колбранд… убитый Гаем из Варвика – имеется в виду стихотворный роман XII в. норманно-французского происхождения «Гай из Варвика». Наиболее известный эпизод этого романа, посвященный описанию поединка Гая с великанами Колбрандом, рассказан также в поэме М. Драйтона «Полиолбион» (1613–1622), кн. XII, откуда, очевидно, Ирвинг и почерпнул свое сравнение.]
Стоффель Бринкерхоф был человеком немногословным, но расторопным – одним из тех бесхитростных офицеров, которые идут прямо вперед и выполняют приказания, не кичась этим. Он не проявил особой быстроты в своем движении, но упорно шагал через Ниневию и Вавилон, Иерихон и Патчог и через большой город Куэг и различные другие некогда знаменитые города, которые с помощью какого-то непостижимого волшебства, примененного янки, были странным образом перенесены на Лонг-Айленд, пока, наконец, не прибыл к окрестностям Устричной бухты.
Там он был встречен шумной толпой доблестных воинов во главе с Вяленой Рыбой, Хэббакаком Сборщиком орехов, Дай Сдачи, Зираббебелем Казной, Джонатаном Бездельником и Решительным Петухом! Услышав их имена, храбрый Стоффель и в самом деле подумал, что весь Тощий парламент[259 - Тощий парламент – Ирвинг высмеивает пуританский обычай давать детям имена «со значением». Членом кромвелевского парламента в 1653 г. был некий торговец кожами по имени Хвала Богу Тощий, отчего этот парламент получил ироническое прозвище «Тощего парламента».] был выпущен на свободу, чтобы разбить его отряд. Обнаружив, однако, что это грозное войско состояло просто из «лучших людей» поселения, вооруженных всего лишь своими языками, и что они выступили навстречу ему с единственным намерением вступить в словесную битву, он без особого труда сумел обратить их в бегство и совершенно разрушил их поселение. Не тратя времени на то, чтобы тут же на месте написать победную реляцию и таким образом дать врагу ускользнуть, пока он будет обеспечивать себе лавры, как поступил бы более опытный генерал, честный Стоффель думал только о том, чтобы поскорей завершить свое предприятие и полностью изгнать янки с острова. Это трудное предприятие он выполнил почти таким же образом, каким он привык гнать своих быков: когда янки пустились наутек от него, он подтянул свои штаны и упорно зашагал за ними; он непременно загнал бы их в море, если бы они не запросили пощады и не согласились платить дань.
Известие об этом подвиге вовремя подняло дух граждан Нового Амстердама. Чтобы угодить им еще больше, губернатор решил поразить их одним из тех величественных зрелищ, широко известных в эпоху классической древности, полное описание которых было вбито в его голову с помощью розог, когда он был школьником в Гааге. Итак, он издал указ об устройстве триумфальной встречи Стоффелю Бринкерхофу, торжественно вступившему в город верхом на наррагансетском иноходце; перед победителем несли пять тыкв, которые, подобно римским орлам,[260 - Римские орлы – серебряный орел, прикрепленный к древку знамени, был значком римского легиона.] служили врагам знаменами. Десять телег, груженных устрицами, пятьсот бушелей уэтерсфилдского лука, сотня центнеров трески, две бочки патоки и разные другие богатства были выставлены напоказ в качестве военных трофеев и полученной от янки дани; а трех известных фальшивомонетчиков, подделывавших манхаттанские кредитные билеты,[261 - Здесь мы имеем один из тех весьма обыкновенных анахронизмов, которые тут и там попадаются на страницах этой, в остальном вполне достоверной истории. Как можно было подделать манхаттанские кредитные билеты, когда в то время банки в нашей стране были еще неизвестны и наши наивные прародители даже не мечтали об этих неисчерпаемых источниках бумажных сокровищ. – Типографский ученик.] бросили в тюрьму в честь триумфа нашего героя. Процессию увеселяла военная музыка, которой оглашала воздух труба Антони Ван-Корлеара, защитника Нового Амстердама, сопровождаемая отборным оркестром из мальчишек и негров, игравших на национальных инструментах, то есть стучавших чем-то вроде кастаньет из кости и ракушек. Граждане с чистосердечной радостью поедали военную добычу; каждый мужчина оказал честь победителю, от всей души напившись ромом из Новой Англии, а ученый Вильгельмус Кифт, в мгновенном порыве восторга и великодушия вспомнив, что у древних существовал обычай устанавливать в честь победоносных генералов статуи в общественных местах, издал всемилостивейший указ, по которому каждому владельцу таверны разрешалось нарисовать на своей вывеске голову бесстрашного Стоффеля!
ГЛАВА IV
Философские размышления о том, какое безумие наслаждаться счастьем во времена благоденствия. – Тревожные события на южных границах. – Как Вильям Упрямый по своей великой учености едва не разорил провинцию посредством кабалистического слова, – А также о тайной экспедиции Яна Янсена Алпендена и о полученном им изумительном вознаграждении.
Если бы только нам удалось заглянуть в бухгалтерские книги госпожи Фортуны, в которых она, как домовитая хозяйка гостиницы, аккуратно ведет приходно-расходные счета человечества, мы обнаружили бы, что в общем добро и зло в этом мире почти полностью уравновешиваются и что, хотя мы можем долго наслаждаться подлинным благоденствием, наступит в конце-концов время, когда нам придется с прискорбием расплатиться по счету. Действительно, Фортуна – злая, сварливая женщина и к тому же неумолимый кредитор; пусть своим любимчикам она оказывает долгосрочный кредит и осыпает их своими милостями, все же раньше или позже она со строгостью опытной хозяйки постоялого двора предъявляет к взысканию все недоимки и смывает свои записи слезами должников. «Так как, – говорит добрый старый Боэций[262 - Боэций, Аниций (480–524) – римский философ, математик и теоретик музыки, автор «Утешения философии».] в своих философских утешениях, – ни один человек не может удержать ее по своему желанию и так как о ее бегстве столь глубоко скорбят, то ее благодеяния являются не чем иным, как верным предзнаменованием предстоящих горестей и невзгод». Ничто не пробуждает во мне большего презрения к глупости и недомыслию моих ближних, чем зрелище того, как они радостно наслаждаются чувством безопасности и уверенности во времена процветания. Для мудреца, благословенного светом ума, это как раз мгновения беспокойства и опасений, ибо он хорошо знает, что по существующему порядку вещей счастье в лучшем случае преходяще и чем выше вознесен человек капризным дуновением судьбы, тем ниже будет его падение. Между тем тот, кто удручен несчастьями, имеет меньше шансов столкнуться с новыми невзгодами, как человек у подножия холма не подвергается опасности сломать себе шею, упав с вершины.
Такова самая суть истинной мудрости, которая состоит в знании того, когда нам надлежит считать себя несчастными, и которая была обнаружена почти одновременно с бесценной тайной о том, что «все есть суета и треволнение духа»;[263 - …«все есть суета и треволнение духа» – перефразировка библейского изречения «суета сует и всяческая суета» (Екклезиаст, I, 2).] следуя этому изречению, наши мудрецы всегда были самыми несчастными представителями человеческого рода. Мы считаем, что впадать в уныние без всякой причины – это бесспорный признак гения, ибо всякий человек может чувствовать себя несчастным во время невзгод, но только философ способен обнаружить причину для печали в час благоденствия.
В соответствии с положением, только что мною высказанным, мы видим, что колония Новые Нидерланды, которая в правление прославленного Ван-Твиллера процветала в столь опасной и роковой безмятежности, расплачивается теперь за свое прежнее благополучие и погашает огромный долг за благосостояние, в который она влезла. Враги нападают на провинцию с различных сторон, город Новый Амстердам, еще не вышедший из младенчества, они держат в постоянной тревоге, а к ее доблестному правителю, маленькому Вильяму Упрямому вполне подходит простонародное, но выразительное определение «человек, у которого забот полон рот».
Пока он усердно отражал нападения своих злейших врагов, янки, с одной стороны, ему неожиданно стали досаждать в другой стороне другие противники. Колония бродячих шведов под руководством Петера Минневитса, именовавших себя подданными грозной бой-бабы Христины,[264 - Христина (1626–1689)-шведская королева (1632–1654).] шведской королевы, поселилась и построила крепость на реке Южной (или Делавэр) – в пределах земель, которые правительство Новых Нидерландов считало своими. История умалчивает о том, где и когда они впервые высадились и на каком основании притязали на упомянутые земли; это тем более прискорбно, что, как мы увидим, та же колония шведов в будущем нанесет весьма существенный ущерб интересам не только Нидерландов, но и всего мира!