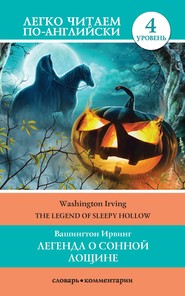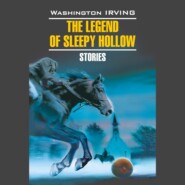По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Нью-Йорка
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Stille Seugen eten al den draf op,
что переведенное для блага современных законодателей на наш язык означает:
У той свиньи, которая смирна,
Бадья всегда помоями полна.
Итак, под трезвым руководством прославленного Ван-Твиллера и под мудрым надзором его бургомистров новорожденное поселение быстро росло, постепенно выступая из болот и лесов и являя взору ту смесь деревни и города, которая обычна для новых городов и в наши дни наблюдается в Вашингтоне[189 - Вашингтон. – Во времена Ирвинга, в начале XIX в., столица США Вашингтон только начинал застраиваться (город был основан в 1791 г.).] – огромной столице, имеющей столь величественный вид… на бумаге.
Ряды домов начали уже выстраиваться наподобие улиц и переулков; а повсюду, где оставались пустыри, они покрывались густыми зарослями сладко пахнущего дурмана, в просторечии называемого дурнишником. В этих душистых уголках честные бюргеры, как и многие патриархи древности, посиживали в знойные дни, покуривая трубку, вдыхая бальзамические запахи, приносимые каждым порывом ветра, и прислушиваясь с молчаливым удовлетворением к кудахтанью кур, гоготу гусей или к звучному хрюканью свиней. Звуки этой симфонии фермерского двора поистине можно было назвать серебряными, поскольку они внушали твердую надежду на хороший доход от базарного торга.
Наш современник, бродящий по оживленным улицам этого многолюдного города, едва ли может составить себе представление о тем, как непохоже было все в те первобытные дни. Деловитого гула торговли, шума буйного веселья, стука роскошных экипажей не знали в мирном поселке Новый Амстердам. Блеющие овцы и шаловливые телята резвились на поросшем зеленью гребне холма, где теперь их законные наследники, бродвейские ротозеи, совершают утреннюю прогулку; хитрая лисица или хищный волк скрывались в лесах, где теперь мы видим притоны Гомеса[190 - Гомес – богатый банкир в комедии Дж. Драйдена «Испанский монах» (1680).] и его честного братства менял; стаи крикливых гусей гоготали на поле, где теперь патриотическая таверна Мартлинга оглашается ссорами буйных сборищ.[191 - «Де Фриз упоминает о месте, где вытаскивали суда на берег для осмотра повреждений, и называет его Smits Vleye; в Нью-Йорке и до сегодняшнего дня существует площадь под этим названием, где построен рынок, называемый Флай-маркет». – Old MS.* Я думаю, что мало есть уроженцев этого большого города, которые мальчиками не были бы втянуты в знаменитую вражду между Бродвеем и Смит-Флай, послужившую темой столь многих базарных песенок и школьных стихов. – Издатель.*Старинная рукопись] Весь остров, во всяком случае в той части, что была заселена, цвел, как второй рай; при каждом доме был огород с капустой,[192 - …огород с капустой… – выращивание голландскими колонистами капусты было постоянным объектом насмешек в рассказах В. Ирвинга («Вольферт Веббер, или Золотые сны») и Э. По («Черт на колокольне»).] и эти съедобные овощи не только обещали щедрый запас кислой капусты, но и были эмблемой быстрого роста и степенных нравов молодой колонии.
Таковы мирные картины, наблюдаемые при тучных правителях. Провинция Новые Нидерланды, не обладая богатством, наслаждалась сладостным покоем, которого не купишь ни за какие деньги. Поистине казалось, что снова началось царствование старого Сатурна и опять наступили золотые дни первобытной простоты. Ибо, как говорит Овидий, золотой век совершенно не знал золота и именно по этой причине назывался золотым[193 - …золотой век не знал золота и поэтому назывался золотым… – слова французского публициста Адриана де Лезе-Марнезиа (1770–1814) из его книги «Мысли» (1797). Понятие «золотой век» восходит еще к Гесиоду и Овидию. Близкая мысль о золотом веке, когда не знали слов «твое» и «мое», содержится в XI главе первой части «Дон Кихота» Сервантеса.] веком, то есть счастливым, благоденственным веком, потому что тогда не существовало таких зол, порождаемых драгоценными металлами, как скупость, корыстолюбие, воровство, грабеж, ростовщичество, банкирские конторы, ссудные кассы, лотереи и еще целый список преступлений и бедствий. В железный век золото было в изобилии, вследствие чего он и назывался железным веком – из-за лишений, тягот, раздоров и войн, порождаемых жаждой золота.
Таким образом, веселые времена Воутера Ван-Твиллера могут быть справедливо названы золотым веком нашего города. Не было ни общественных волнений, ни частных ссор; ни партий, ни сект, ни расколов; ни судебных преследований, ни тяжб, ни наказаний; не было тогда ни адвокатов, ни стряпчих, ни сыщиков, ни палачей. Каждый занимался тем небольшим делом, которым ему посчастливилось владеть, или, не спрашивая мнения соседей, относился к нему спустя рукава, если ему того хотелось. В те дни никто не ломал себе голову над вопросами, которые были выше его понимания, и не совал своего носа в то, что его не касалось: никто в своем рвении очернить репутацию других не забывал исправлять собственное поведение и заботиться о собственной репутации. Одним словом, каждый уважаемый гражданин ел, когда не был голоден, пил, когда не испытывал жажды, и ложился в постель, когда заходило солнце и куры взбирались на насест, независимо от того, хотелось ему спать или нет. Все это, подтверждая теории Мальтуса, столь замечательно способствовало росту населения нашего города, что, как мне говорили, каждая примерная жена во всех семьях Нового Амстердама считала делом чести ежегодно дарить своему мужу по меньшей мере одного ребенка, а очень часто и двойню. В соответствии с любимой голландской поговоркой, что «больше, чем достаточно, уже пиршество», такое изобилие малышей явно говорило об истинно счастливой жизни. И вот, все шло так, как должно было идти, и, пользуясь обычным выражением, употребляемым историками для описания благоденствия страны, «глубочайшая тишина и спокойствие царили во всей провинции».
ГЛАВА III
О тем, как город Новый Амстердам поднялся из грязи и стал на удивление изысканным и учтивым, вместе с картиной нравов наших прапрадедов.
Разнообразны вкусы и склонности просвещенных людей, которые перелистывают страницы истории. Есть среди них такие, чье сердце полно до краев дрожжами отваги и чья грудь волнуется, пыжится и пенится безрассудной смелостью, как бочонок молодого сидра или как капитан гражданской гвардии, только что вышедший от своего портного. Такого рода доблестные читатели ничем не могут удовольствоваться, кроме кровавых битв и грозных стычек; они все время должны брать штурмом крепости, разорять города, взрывать мины, идти на врага под дулами пушек, на каждой странице бросаться в штыковую атаку и наслаждаться запахом пороха и резней. Другие читатели, обладающие менее воинственным, но столь же пылким воображением и вместе с тем склонные ко всему таинственному, останавливаются с огромным удовлетворением на описаниях невероятных событий, небывалых случаев, чудесных спасений, дерзких приключений, на всяких изумительных повествованиях, едва не переступающих границ правдоподобия. Читатели третьего рода, которые – мы не хотим сказать о них ничего предосудительного – отличаются более легкомысленным складом ума и скользят по рассказам о прошлом так же, как по назидательным страницам романов, просто для отдыха и невинного развлечения, питают особый интерес к изменам, казням, похищениям сабинянок,[194 - Сабинянки – женщины соседнего с Римом племени, которых римляне, согласно легенде, похитили во время празднества.] Тарквиниевым насилиям,[195 - Тарквиний (VI в. до н. э.) – по преданию, последний царь древнего Рима; его тираническое правление вызвало восстание в Риме. Тарквиний был изгнан и была установлена республика.] пожарам, убийствам и ко всем другим отвратительным преступлениям, придающим, подобно перцу при стряпне, остроту и вкус скучным подробностям истории. Читатели же четвертого рода, с более философскими наклонностями, прилежно изучают заплесневелые летописи прошлого, чтобы познать деяния человеческого ума и проследить постепенные перемены в людях и обычаях, обусловленные развитием знаний, превратностями судеб и влиянием обстоятельств.
Читатели первых трех родов мало что найдут для своего развлечения в спокойном правлении Воутера Ван-Твиллера, но я прошу их на время набраться терпения и примириться со скучной картиной счастья, благоденствия и мира, которую меня обязывает нарисовать мой долг правдивого историка; и я обещаю им, что как только мне представится возможность остановиться на чем-нибудь ужасном, необычном или невероятном, я постараюсь, чего бы мне это ни стоило, доставить им удовольствие. Условившись об этом, я с великой радостью обращаюсь к моим читателям четвертого рода – мужчинам, а, возможно, и женщинам, которые мне по душе: серьезным, философически настроенным и любознательным, любящим подробно разбирать характеры, начинать с первопричин и прослеживать историю народа сквозь лабиринт нововведений и усовершенствований. Такие читатели, разумеется, возжаждут узнать о начальной стадии развития только что родившейся колонии и о первобытных нравах и обычаях, преобладавших среди ее жителей в эпоху безоблачного правления Ван-Твиллера, то есть Сомневающегося.
Если бы я стал описывать во всех мелочах постепенный переход от грубой бревенчатой хижины к величественному голландскому дому с кирпичным фасадом, застекленными окнами и драночной крышей, от густых зарослей к огородам, приносившим обильные урожаи капусты, и от таящегося в засаде индейца к важному бургомистру, это было бы, вероятно, утомительно для моих читателей и, конечно, очень неудобно для меня; достаточно сказать, что деревья были вырублены, пни выкорчеваны, кусты уничтожены, и новый город постепенно возник среди болот и зарослей дурнишника, как громадный гриб, выросший на куче гнилой древесины. Так как мудрый магистрат, о чем мы упомянули в предыдущей главе, оказался не в состоянии принять какой-нибудь план постройки города, то коровы в похвальном порыве патриотизма взяли эту заботу на себя; идя на пастбище и возвращаясь с него, они проложили тропинки среди чащи, по обеим сторонам которых добрые люди построили свои дома. Это – одна из причин кривизны, причудливых поворотов и запутанных разветвлений, отличающих часть улиц Нью-Йорка еще и в наши дни.
Следует отметить, что граждане, бывшие ревностными сторонниками мингера Десятиштанного (или Тен Брука), раздосадованные отказом от его плана прорытия каналов, отдали дань своим склонностям и обосновались на берегах ручьев и протоков, извивавшихся в разных концах предназначенной к расчистке местности. Этим людям может быть, в частности, приписано создание первого поселения на Брод-стрит, которая первоначально была проложена вдоль ручья, в верхнем течении доходившего до вала, что теперь называется Уолл-стрит. Нижняя часть города вскоре стала очень оживленной и многолюдной, и со временем в центре ее был построен дом при перевозе,[196 - * Это здание несколько раз ремонтировалось и в настоящее время представляет собой маленький желтый кирпичный дом, значащийся под № 23 на Брод-стрит; он обращен фронтоном к улице и увенчан железным шпилем, на котором еще три-четыре года тому назад маленький железный паром исполнял обязанности флюгера.] в те дни именовавшийся «центром речной навигации».
Напротив, последователи мингера Крепкоштанника, не менее предприимчивые и более трудолюбивые, чем их соперники, поселились на берегу реки и с беспримерным упорством занялись постройкой маленьких доков и плотин, вследствие чего вокруг нашего города и возникло такое множество илистых западней. К этим докам отправлялись некогда старые бюргеры в те часы, когда с отливом берег обнажался и можно было вдыхать ароматные испарения ила и тины, которые, по их мнению, обладали подлинно целебным запахом и напоминали им о голландских каналах. Неутомимым трудам и похвальному примеру сторонников проектов последнего рода мы обязаны теми акрами искусственно образовавшейся суши, на которой построена часть наших улиц поблизости от рек и которая, если верить утверждениям кое-кого из ученых медиков нашего города, сильно способствовала возникновению желтой лихорадки.
Дома людей высшего класса обычно были построены из дерева, за исключением фронтона, сложенного из маленьких черных и желтых голландских кирпичей и обращенного всегда к улице, так как наши предки, подобно их потомкам, придавали большое значение внешнему виду и были известны тем, что показывали товар лицом. В доме всегда бывало изобилие больших дверей и маленьких окошек во всех этажах; о годе его постройки возвещали причудливые железные цифры на фасаде, а на коньке крыши торчал надменный маленький флюгер, посвящавший семью в важную тайну – куда дует ветер. Как и флюгера на шпилях наших колоколен, те флюгера показывали столько различных направлений, что ветер мог угодить на любой вкус; казалось, старый Эол наугад, как попало, развязал все свои мешки с ветрами,[197 - …Эол… развязал свои мешки с ветрами… – В «Одиссее» (X, 1-75) рассказывается о том, как властитель острова Эолии и повелитель ветров Эол подарил Одиссею кожаный мех, в котором были зашиты ветры, и как матросы Одиссея, полагая, что в мешке сокрыты сокровища, развязали его; вырвавшись на волю, ветры сбили корабль Одиссея с пути.] чтобы они порезвились вокруг этой ветреной столицы. Однако самые стойкие и благонадежные граждане всегда руководствовались флюгером на крыше губернаторского дома – разумеется, самым правильным, так как каждое утро доверенный слуга лазил наверх и направлял его в ту сторону, в какую дул ветер.
В эти славные дни простоты и веселья чистота была тем, к чему больше всего стремились в домашнем обиходе, и страсть к ней являлась общепризнанным отличительным свойством хорошей хозяйки – звания, бывшего предметом честолюбивейших мечтаний наших необразованных прабабушек. Парадная дверь отпиралась только в дни свадеб, похорон, в новогодний праздник, в день святого Николая или еще по какому-либо столь же важному случаю. Она была украшена блестящим медным молотком, причудливо выкованным иногда в форме собаки, а иногда львиной головы, и ежедневно начищалась с таким благочестивым пылом, что нередко изнашивалась из-за предосторожностей, принятых для ее сохранения. Весь дом постоянно был залит водой и в нем командовали швабры, веники и жесткие щетки; хорошие хозяйки в те дни были кем-то вроде земноводных животных, и плескаться в воде доставляло им такое огромное удовольствие, что один историк тех времен всерьез утверждает, будто у многих женщин его города появились перепонки между пальцами, как у уток; а у некоторых из них – он не сомневался, что смог бы подтвердить свои слова, если бы удалось произвести соответствующее исследование – можно было бы обнаружить русалочий хвост, но, по-моему, это просто игра воображения или, еще хуже, умышленное искажение действительности.
Парадная гостиная была sanctum sanctorum,[198 - Святая святых (лат.).] где страсти к наведению чистоты предавались без всякого удержу. В эту священную комнату никому не разрешалось входить, кроме госпожи и ее верной служанки, которые появлялись там раз в неделю, чтобы сделать тщательную уборку и привести все в порядок; при этом они всякий раз оставляли свои башмаки у дверей и благоговейно переступали порог в одних чулках. Они скребли дочиста пол, посыпав его тонким белым песком, который под взмахами щетки ложился причудливым узором из углов, кривых и ромбов, мыли окна, стирали пыль с мебели и наводили на нее глянец, клали новую охапку вечнозеленых веток в камин, затем снова закрывали ставни, чтобы не залетели мухи, и тщательно запирали комнату до той поры, когда круговращение времени вновь принесет еженедельный день уборки.
Что касается членов семьи, то они всегда входили через калитку и жили преимущественно в кухне. При виде многочисленных домочадцев, собравшихся вокруг очага, вы могли бы вообразить, что перенеслись в те счастливые дни первобытной простоты, которые золотыми видениями мелькают в наших мечтах. Очаг приобретал поистине патриархальную величавость, когда вся семья, стар и млад, хозяин и слуга, черный и белый и даже кошка с собакой пользовались одинаковыми привилегиями и имели освященное обычаем право на свой уголок. Там старый бюргер сиживал в полном молчании, попыхивая трубкой, глядя на огонь полузакрытыми глазами и часами ни о чем не думая; напротив него goede vrouw прилежно пряла свою пряжу или вязала чулки. Молодежь теснилась к печи и, затаив дыхание, слушала какую-нибудь старуху-негритянку, которая считалась семейным оракулом и, как ворон взгромоздившись в сторонке, длинными зимними вечерами рассказывала одну за другой невероятные истории о ведьмах Новой Англии, страшных привидениях, лошадях без головы, чудесных спасениях и о кровавых стычках между индейцами.
В те счастливые дни добропорядочная семья вставала с зарей, обедала в одиннадцать часов и ложилась спать на заходе солнца. Обед неизменно был семейной трапезой, и тучные старые бюргеры встречали явными признаками неодобрения и неудовольствия неожиданный приход соседа в это время. Но хотя наши достойные предки были вовсе не склонны устраивать званые обеды, все же для поддержания более тесных общественных связей они время от времени собирали гостей, приглашая их на чай.
Так как эти восхитительные оргии были тогда нововведением, впоследствии ставшим столь модным в нашем городе, то я уверен, что моим любезным читателям будет весьма интересно получить о них более подробные сведения. К сожалению, лишь немногое в моем описании сможет вызвать восторг читателей. Я не могу порадовать их рассказами о несметных толпах, блестящих гостиных, высоких плюмажах, сверкающих бриллиантах, громадных шлейфах. Я не могу привести занимательнейшие примеры злословия, так как в те первобытные времена простосердечные люди были либо слишком глупы, либо слишком добродушны, чтобы перемывать друг другу косточки. Я не могу рассказать также про забавные случаи хвастовства, про то, как одна леди плутовала, а другая приходила в ярость, ибо тогда еще не существовало компаний единомышленниц, состоявших из милейших старых вдов, которые встречаются за карточным столом, чтобы выигрывать чужие деньги и терять хорошее расположение духа.
В этих модных сборищах принимали участие преимущественно представители высших классов, то есть знати, иначе говоря, тех, у кого были свои коровы и кто правил собственными повозками. Гости обычно собирались в три часа и покидали радушных хозяев около шести, если только дело не происходило зимой, когда принято было собираться немного раньше, чтобы дамы могли вернуться домой засветло. Мне не удалось нигде обнаружить сведений о том, что хозяева когда-либо угощали своих гостей сливочным мороженым, желе и взбитыми сливками, либо потчевали их затхлым миндалем, заплесневелым изюмом и кислыми апельсинами, как это часто делается в нынешний утонченный век. Наши предки любили более плотную, существенную пищу. Посредине стола красовалось огромное фаянсовое блюдо, наполненное ломтями жирной свинины с румяной корочкой, нарезанными на куски и плававшими в мясной подливке. Гости усаживались вокруг гостеприимного стола и, вооружившись вилками, показывали свою ловкость, вылавливая самые жирные куски из этого громадного блюда – почти так, как моряки ловят острогой черепах в море или наши индейцы багрят лососей в озерах. Иногда стол ломился под гигантскими пирогами с яблоками или под мисками с заготовленными впрок персиками и грушами; и неизменно он мог похвалиться громадным блюдом с шариками из сдобного теста, жаренными в кипящем свином сале и называвшимися тестяными орехами или oly koeks[199 - Масляное печенье (голл.).] – чудесное лакомство, в настоящее время в нашем городе почти никому неизвестное, кроме истинно голландских семей, но по-прежнему занимающее почетное место на праздничных столах в Олбани.
Чай наливали из внушительного чайника делфтского фаянса с изображенными на нем толстенькими маленькими голландскими пастухами и пастушками, пасущими свиней, или лодками, плывущими в воздухе, домами, стоящими в облаках, и другими замысловатыми произведениями голландской фантазии. Кавалеры щеголяли друг перед другом ловкостью, с какой они наполняли этот чайник кипятком из большого медного котла, одного вида которого достаточно, чтобы бросить в пот карликовых франтов нашего выродившегося времени. Для подслащиванья чая возле каждой чашки клали кусок сахара, и все общество попеременно то отгрызало крошку сахара, то прихлебывало чай, пока одна изобретательная и экономная старая леди не внесла усовершенствование: прямо над столом на веревочке, спускавшейся с потолка, висел большой кусок сахара, до которого, когда его раскачивали, каждый мог дотянуться ртом – остроумный способ, все еще применяемый некоторыми семьями в Олбани и безраздельно царящий в Коммунипоу, Бергене, Флат-Буше и во всех других наших голландских деревнях, не зараженных новшествами.
Во время этих старинных праздничных чаепитий царили крайняя благопристойность и строгость поведения. Никакого флирта или кокетничания, ни карточных игр для пожилых дам, ни болтовни и шумных шалостей для молодых девиц. Здесь вы не услышали бы самодовольной похвальбы богатых джентльменов, которым толстая мошна заменяет ум, ни вымученных острот и обезьяньих шуточек франтоватых молодых джентльменов, у которых ум вовсе отсутствует. Напротив, молодые леди скромно усаживались на стулья с камышевым сидением и вязали принесенный с собой шерстяной чулок; они раскрывали рот лишь для того, чтобы сказать: «yah, Mynher»[200 - Да, сударь (голл.).] или «yah, ya Vrouw»[201 - Да, да сударыня (голл.).] в ответ на любой заданный им вопрос, и во всем вели себя как благопристойные, хорошо воспитанные барышни. Что касается джентльменов, то все они спокойно покуривали свои трубки и казались погруженными в созерцание синих и белых изразцов, которыми был облицован камин, с благочестиво изображенными на них сценами из священного писания. Чаще всего то были Товит с его собакой[202 - …Товит с его собакой… – по-видимому, у Ирвинга ошибка: собака была у Товия, сына Товита (Библия. Книга Товита, V, 17).] или Аман,[203 - Аман… – правитель библейского царя Артаксеркса, повешенный на виселице, которую он готовил своему врагу Мардохею (Библия. Книга Есфирь, V–VII).] в назидание всем болтающийся на виселице, и Иона, преотважно выскакивающий из кита, как арлекин, который прыгает сквозь пылающую бочку.
Гости расходились без шума и без всякой сутолоки, ибо, сколь странным это ни могло бы показаться, леди и джентльмены довольствовались тем, что надевали свои собственные плащи, шали и шляпы, не помышляя даже (какое простодушие!) об остроумной системе обмена нарядами, установившейся в наши дни; при ней уходящие первыми имеют возможность выбрать лучшую шаль или шляпу, какая им только попадется, – обычай, возникший, несомненно, из наших коммерческих повадок. Гостей доставляли домой собственные кареты, иначе говоря, перевозочные средства, дарованные им природой; исключение составляли лишь те богачи, которые могли позволить себе завести повозку. Джентльмены галантно сопровождали своих прекрасных дам до дверей их жилищ и громко целовали на прощание. Так как это было установлено этикетом и делалось с полнейшим простодушием и чистосердечием, то не вызывало тогда никаких пересудов и не должно было бы вызывать и в наши дни: если наши прадеды одобряли такой обычай, со стороны потомков было бы крайним неуважением возражать против него.
ГЛАВА IV
Содержащая дальнейшие подробности о золотом веке и рассказывающая о том, какими свойствами должны были обладать истинные леди и джентльмены во времена Вальтера Сомневающеюся.
В этот благословенный период моей истории, когда прекрасный остров Манна-хата являл взору точную копию тех ярких картин, какие нарисовал старый Гесиод, описывая золотое царство Сатурна, жители острова, среди которых господствовала чистосердечная простота, жили в состоянии счастливого неведения; если бы я даже сумел его изобразить, все равно оно вряд ли могло бы быть понятно в наш вырождающийся век, для которого мне суждено писать. Даже представительницы женского пола, эти главные противницы спокойствия, честности и седобородых общественных обычаев, временно проявляли небывалую рассудительность и благопристойность и вели себя поистине почти так, словно не были посланы в этот мир для того, чтобы причинять хлопоты человечеству, сбивать с толку философов и приводить в замешательство вселенную.
Их волосы, не истерзанные отвратительными ухищрениями искусства, были тщательно смазаны сальной свечой, зачесаны назад и прикрыты небольшим подбитым ватой коленкоровым чепцом, плотно сидевшим на голове. Их юбки из грубой полушерстяной ткани были обшиты пестрыми яркими полосами и могли соперничать с многоцветными одеяниями Ириды.[204 - Ирида – в древнегреческой мифологии вестница богов.] Впрочем, должен сознаться, эти прелестные юбочки были довольно короткие и едва прикрывали колени, что возмещалось их числом, которое обычно не уступало числу штанов у джентльменов. И что еще похвальнее, все юбки были собственной работы, и этим обстоятельством, как легко можно себе представить, женщины немало тщеславились.
То были прекрасные дни, когда все женщины сидели дома, читали Библию и имели карманы – да еще какие большие, отделанные пестрыми лоскутами, составлявшими многочисленные причудливые узоры и хвастливо носимые снаружи. Они действительно были удобными вместилищами, где все хорошие хозяйки заботливо прятали то, что им хотелось иметь под рукой, из-за чего карманы часто становились невероятно раздутыми. Я помню, как в дни моего детства ходил рассказ о том, что жене Воутера Ван-Твиллера довелось в поисках деревянной суповой ложки опорожнить правый карман, содержимое которого наполнило три корзины для зерна, а поварешка в конце концов была обнаружена среди всякого хлама в самом углу кармана. Впрочем, всем этим рассказам не следует придавать слишком большой веры, так как, когда дело идет о давно прошедших временах, люди всегда склонны к преувеличениям.
Кроме замечательных карманов, у женщин постоянно были при себе ножницы и подушечки для булавок, висевшие у пояса на красной ленте, а у более зажиточных и чванных на медной или даже серебряной цепочке – бесспорные признаки домовитой хозяйки или трудолюбивой девицы. Я мало что могу сказать в оправдание коротких юбок; без сомнения, они были введены с той целью, чтобы дать возможность увидеть чулки, которые обычно бывали из синей шерсти с роскошными красными стрелками, а может быть, чтобы открыть взорам красивой формы лодыжку и изящную, хотя и вполне пригодную для ходьбы ступню, обутую в кожаный башмак на высоком каблуке и с большой великолепной серебряной пряжкой. Таким образом, мы видим, что прекрасный пол во все времена одинаково стремился слегка нарушать законы приличия, чтобы выставить напоказ скрытую красоту или удовлетворить невинную любовь к щегольству.
Из приведенного здесь беглого очерка можно видеть, что наши славные бабушки по своим представлениям о красоте фигуры значительно отличались от своих скудно одетых внучек, живущих в наши дни. В те времена прелестная леди переваливалась с ноги на ногу под тяжестью одежды, которой даже в чудесный летний день на ней было больше, чем на целом обществе дам в современной бальной зале. Однако это не мешало джентльменам восхищаться ими. Напротив, страсть возлюбленного, по-видимому, усиливалась пропорционально объему ее предмета, и о дюжей девице, облаченной в дюжину юбок, местные стихоплеты, писавшие на нижнеголландском наречии, утверждали, что она сияет, как подсолнечник, и пышна, как полновесный кочан капусты. Как бы там ни было, в те дни сердце влюбленного не вмещало больше одной женщины зараз, между тем как сердце современного волокиты достаточно просторно, чтобы приютить полдюжины. Причина этого, по моему убеждению, состоит в том, что либо сердца мужчин стали больше, либо женщины стали мельче; впрочем, об этом пусть судят физиологи.
Но в этих юбках было какое-то таинственное очарование, которое, несомненно, влияло на благоразумного кавалера. В те дни гардероб леди был единственным ее достоянием; и та, у кого был хороший запас юбок и чулок, могла, безусловно, считаться богатой наследницей, подобно девице с Камчатки, обладательнице множества медвежьих шкур, или лапландской красавице с большим стадом северных оленей. Поэтому женщины всячески старались выставить напоказ эти могущественные приманки самым выгодным образом; да и лучшие комнаты в доме украшались не карикатурами на госпожу природу, в виде акварелей или вышивок, а были всегда в изобилии увешаны домотканой одеждой, изготовленной самими женщинами и им принадлежавшей, – образец похвального тщеславия, до сих пор наблюдаемого среди наследниц в наших голландских деревнях. Такими были прелестные красавицы старинного города Нового Амстердама, по первобытной простоте своих нравов соперничавшие со знаменитыми и благородными дамами, столь возвышенно воспетыми господином Гомером, который рассказывает нам, что царевна Навсикая[205 - Навсикая – дочь феакийского царя Алкиноя, с которой Одиссей после кораблекрушения встретился на берегу, куда Навсикая пришла стирать белье и играть в мяч с прислужницами («Одиссея», VI).] стирала белье всей семьи, а прекрасная Пенелопа[206 - Пенелопа – жена Одиссея, которая в течение двадцати лет ждала возвращения мужа и отклонила предложения многочисленных женихов, объявив, что выйдет замуж не раньше, чем закончит ткать свадебный наряд. Однако за ночь она распускала то, что успевала соткать днем.] сама ткала свои юбки.
Истинные джентльмены, вращавшиеся в кругах блестящего общества в те старинные времена, почти во всем были похожи на девиц, чьи улыбки они жаждали заслужить. Правда, их достоинства не произвели бы большого впечатления на сердце современной красавицы: они не катались в парных фаэтонах и не щеголяли в запряженных цугом колясках, ибо тогда об этих пышных экипажах еще и не помышляли; не отличались они ни особым блеском за пиршественным столом, ни последующими стычками со сторожами, так как наши предки были слишком мирного нрава, чтобы нуждаться в этих ночных блюстителях порядка, тем более, что к девяти часам в городе не оставалось ни одной живой души, которая не храпела бы во всю мочь. Не притязали они также на изящество, достигаемое с помощью портных, так как тогда эти посягатели на карманы людей изысканного общества и на спокойствие всех честолюбивых молодых джентльменов были в Новом Амстердаме неизвестны. Каждая хорошая хозяйка обшивала своего мужа и семью и даже сама goede vrouw Ван-Твиллер не считала для себя унизительным кроить мужу штаны из грубой шерсти.
Однако дело не обходилось без нескольких юнцов, которые обнаруживали первые проблески так называемого пылкого духа. Они презирали всякий труд, слонялись у доков и по рыночным площадям, грелись на солнце, проигрывали те небольшие деньги, которыми им удавалось разжиться, сражаясь в «орлянку» и в «ямочку», ругались, дрались на кулаках, устраивали петушиные бои и скачки на соседских лошадях, – короче говоря, подавали надежды стать предметом удивления, разговоров и отвращения для всего города, если бы их блестящая карьера, к несчастью, не обрывалась близким знакомством с позорным столбом.
Впрочем, действительно приличный джентльмен тех дней был далеко не таким. Как по утрам, так и по вечерам, на улице и в гостиной он появлялся в грубошерстном кафтане, изготовленном, возможно, прелестными ручками царицы его сердца и щедро украшенном множеством больших бронзовых пуговиц. Десяток штанов увеличивал объем его фигуры, на башмаках были огромные медные пряжки, широкополая шляпа с низкой тульей затеняла полное лицо и волосы болтались за спиной громадной косой в футляре из кожи угря.[207 - …в футляре из кожи угря. – По старинному поверью, кожа угря способствовала укреплению волос.]
В таком виде он отважно пускался в путь, чтобы подвергнуть осаде неумолимое сердце какой-нибудь девицы. Во рту у него, мой добрый читатель, была не флейта, вроде той, из которой Ацис извлекал сладкие звуки, восхваляя свою Галатею,[208 - Ацис… восхваляя свою Галатею… – Согласно легенде, сицилийский пастух Ацис любил Галатею и был убит циклопом Полифемом. Эта тема часто использовалась в античной пасторальной литературе. Ирвинг имеет в виду пастораль Джона Гея «Ацис и Галатея» (1731).] а настоящая делфтская трубка, набитая пахучим табаком самого низкого сорта. Вооружившись ею, он решительно становился перед крепостью и с течением времени ему почти всегда удавалось густыми клубами дыма принудить прекрасного врага к сдаче на почетных условиях.
Таково было счастливое правление Воутера Ван-Твиллера, воспетое во многих давно забытых стихах как подлинный золотой век, по сравнению с которым все остальные эпохи были лишь медной подделкой. В это чудесное время сладостный священный покой царил во всей провинции. Бургомистр мирно курил свою трубку; полновесное утешение его домашней жизни, его супруга, в многочисленных юбках, покончив с дневными делами, степенно сидела у дверей, скрестив руки на белоснежном переднике, и ее не оскорбляли ни прохожие грубияны, ни праздношатающиеся мальчишки – эти вредные сорванцы, которые наводняют наши улицы, скрывая под розами юности шипы и тернии беззакония. Тогда возлюбленный в десяти штанах и девица в десятке юбок, ничего не страшась и не вызывая осуждений, предавались всем невинным ласкам целомудренной любви, ибо чего могла опасаться та добродетель, что была защищена щитом из доброго грубошерстного сукна, равного по прочности по меньшей мере семи бычьим шкурам непобедимого Аякса.
Трижды счастливый век, который никогда не будет забыт! Когда все было лучше, чем стало потом и будет когда-либо впоследствии; когда пролив Баттермилк был совершенно сух при отливе; когда кроме лососей в Гудзоне не было другой рыбы и когда луна сияла чистой, лучезарной белизной, а не меланхолическим желтым светом, порождаемым тем, что ее тошнит от гнусностей, свидетельницей которых она каждую ночь бывает в этом погрязшем в разврате городе.
ГЛАВА V
В которой читателя заставляют совершить приятную прогулку, кончающуюся не так, как она началась.
В лето господне тысяча восемьсот четвертое во второй половине чудесного дня, выдавшегося в мягком месяце октябре, я совершил свою обычную прогулку на батарею, представляющую одновременно гордость и оплот старинного и неприступного города Нью-Йорка. Я хорошо помню, какое тогда было время года, так как оно непосредственно предшествовало исключительно холодной зиме, во время которой наши мудрые управители в порыве бережливой филантропии затратили несколько сот долларов, чтобы разобрать на части деревянные валы, стоившие несколько тысяч, и распределили гнилые куски бревен, не представлявшие ровно никакой ценности, среди дрожавших от холода городских бедняков. Никогда со времен падения стен Иерихона[209 - Иерихон – древний город в Палестине. По библейскому мифу, неприступные стены Иерихона рухнули от звука труб израильтян, завоевавших Палестину в конце 2-го тысячелетия до н. э. (Библия. Книга Иисуса Навина, VI, 19).] или построенных небожителями башен Трои мир не знал такого разрушения – и оно не осталось безнаказанным. Пятеро мужчин, одиннадцать старух и девятнадцать детей, не говоря уже о кошках, собаках и неграх, ослепли при тщетных попытках согреться дымом этой благотворительной замены топлива; кроме того возникла эпидемия глазных заболеваний, которая в дальнейшем возобновлялась каждую зиму, в особенности среди тех, кто пытался топить гнилыми бревнами, кто согревался благотворительностью своих ближних и кто пользовался патентованными каминами.
В названный выше год и месяц я по обыкновению прогуливался, погруженный в задумчивость, вдоль батареи, которая, хотя она теперь и не батарея, служит самым восхитительным местом прогулок и с которой открывается великолепнейший в мире вид. Земля под моими ногами была освящена воспоминаниями прошлого, и когда я медленно брел по длинным аллеям из тополей, которые подобно множеству стоящих торчком березовых метел отбрасывали печальную и мрачную тень, я размышлял о контрасте между окружавшим меня пейзажем и тем, что здесь было в классическую эпоху наших предков. Там, где ныне губернаторский дом по названию и таможня по назначению гордо вздымает свои кирпичные стены и деревянные колонны, некогда стоял приземистый, но прочный, крытый красной черепицей особняк прославленного Воутера Ван-Твиллера. Вокруг могучие бастионы крепости Амстердам вызывающе грозили любому отсутствующему врагу; однако, подобно многим усачам-воинам и отважным капитанам гражданской гвардии, ограничивающимся в своих ратных подвигах одними только угрозами, эти наводившие страх бастионы были уже давно разрушены временем и, как стены Карфагена, ничего уже не говорили испытующему взору археолога. Земляные брустверы давно были сравнены с землей; на их месте появились зеленые лужайки и тенистые аллеи, где веселый подмастерье щеголял своим воскресным костюмом, а трудолюбивый мастеровой, освободившийся от грязной, тяжелой работы, которой он был занят всю неделю, нашептывал извечную сказку любви слушавшей его краем уха чувствительной горничной. Обширная бухта по-прежнему расстилалась широкой водной гладью, усеянной островами, испещренной рыбачьими лодками и окаймленной прелестными, живописными берегами. Но темный лес, когда-то одевавший эти берега, был беспощадно уничтожен жестокой рукой землепашца; спутанные заросли и непроходимые чащи превратились в плодородные сады и волнующиеся хлебные поля. Даже Говернорс-Айленд, некогда веселый сад, принадлежавший властелинам провинции, был покрыт укреплениями, в том числе громадным блокгаузом, так что этот некогда мирный остров напоминал свирепого маленького воина в большой треуголке, пахнущего порохом и бросавшего вызов всему миру!
Некоторое время я пребывал в этом задумчивом настроении, со спокойной грустью сравнивая сегодняшний день с незапамятными благословенными годами, оплакивая печальные достижения цивилизации и восхваляя то рвение, с каким наши почтенные бюргеры пытаются сохранить остатки достойных уважения обычаев, предрассудков и заблуждений от всепоглощающих волн современных нововведений. Но вот постепенно мои мысли приняли другой оборот, и я незаметно пробудился к наслаждению окружавшей меня красотой. То был один из тех восхитительных осенних дней, какими небеса особенно часто дарят прекрасный остров Манна-хату и его окрестности. Ни одно даже самое легкое облачко не затемняло лазурный небосвод; солнце в сияющем великолепии совершало свой путь в эфире, и его честная голландская физиономия, казалось, приняла выражение необыкновенной доброжелательности, когда оно приветствовало вечерней улыбкой город, освещать который своими живительными лучами было для него наслаждением. Даже ветры как бы сдерживали дыхание в немом почтении, чтобы не потревожить покоя этого часа, и ничем не взволнованная гладь бухты представлялась сверкающим зеркалом, в которое природа смотрелась и улыбалась! Знамя нашего города, подобно лучшему носовому платку сохраняющееся для торжественных дней, неподвижно свисало с флагштока, напоминавшего ручку гигантской маслобойки. И даже трепещущие листья тополя и осины, как языки представительниц прекрасного пола редко пребывающие в неподвижности, теперь не дрожали под дуновением небес. Все словно разделяло глубокий покой природы. Громадные восемнадцатифунтовые пушки спали в амбразурах деревянных батарей, как бы собираясь со свежими силами, чтобы вести битвы за свою родину в следующее Четвертое июля.[210 - Четвертое июля – национальный американский праздник в честь провозглашения в 1776 г. «Декларации независимости» Соединенных Штатов Америки.] Одинокий барабан на Говернорс-Айленд забыл призвать гарнизон к лопатам, вечерняя пушка еще не подавала сигнала всем почтенным, благонамеренным курицам по всей округе усаживаться на насест; и флотилия лодок, стоявших на якоре между островом Виселицы и Коммунипоу, дремала над наметами и позволяла безобидным устрицам мирно лежать до поры до времени в мягком иле их родной отмели! Мои собственные чувства были в согласии с этим заразительным покоем, и я непременно задремал бы на одной из тех скамеек-коротышек, которые наш милостивый магистрат установил для блага гуляющих и выздоравливающих, если бы изумительное неудобство этого сидения не исключало подобной возможности.
Погруженный в успокоительную душевную дремоту, я вдруг обратил внимание на темное пятнышко, появившееся на западе, как раз позади Бергенской колокольни; постепенно оно увеличивается и нависает над будущими городами Джерси, Харсимус и Хобокен, которые, как три жокея, выстроившись рядом, готовятся к соревнованию за место под солнцем и в начале скачки натыкаются друг на друга. Вот темное пятно охватывает длинную полосу берега древней Павонии, простирая широкую тень от высоких зданий Уихоука до самого лазарета и карантина, воздвигнутого нашей мудрой полицией для затруднения торговли; вот оно карабкается по ясному небосводу, облако громоздится на облако, как волны, набегающие одна на другую, скрывая от глаз дневное светило, затемняя обширную часть горизонта и неся в своем лоне гром, град и бурю. Земля кажется взволнованной от этого смятения на небесах: прежде спокойное зеркало исхлестано бешеными волнами, которые с глухим ворчанием устремляют свои изломанные валы к берегу. Устричная флотилия, только что мирно покачивавшаяся близ Острова Виселицы, спешит теперь, испуганная, к берегу. Прежде гордый, непреклонный тополь гнется и раскачивается под безжалостным ветром. Низвергающиеся потоки проливного дождя и гулкий град затопляют и засыпают аллеи на батарее, под арками ворот спасается от бури толпа подмастерьев, служанок и французиков, прикрывающих шляпы носовыми платками. Недавно столь прекрасный ландшафт, теперь являет взорам картину беспорядка и дикого смятения, как будто снова воцарился древний Хаос и опять закружили в необъятном вихре враждующие стихии природы. Вообрази себе, о, читатель, страшную битву между Юпитером и титанами, воспетую старым Гесиодом,[211 - …воспетую старым Гесиодом… – В поэме «Теогония» Гесиода описывается победа Зевса (Юпитера) над титанами.] вообрази себе беспрестанный рев небесной артиллерии, бьющей по головам гигантских сыновей Земли. Короче говоря, вообрази себе все, что когда-либо говорили или пели о буре, шторме и урагане, и ты избавишь меня от труда описывать то, что происходило.
Убежал ли я от неистовства бури или храбро остался на своем посту, как наши доблестные капитаны гражданской гвардии, которые бесстрашно ведут своих солдат сквозь дождь, пусть решает читатель. Возможно, он тоже будет несколько смущен, недоумевая, почему я нарушил безмятежный дух моего труда, включив в него описание этой страшнейшей, неслыханной бури. По этому последнему пункту я готов охотно просветить его. Панорама, открывающаяся с батареи, была нарисована просто для того, чтобы порадовать читателя правильным описанием этого знаменитого места и его окрестностей; во-вторых, шторм разыгрался отчасти для того, чтобы внести некоторое разнообразие и живость в эту спокойную часть моего труда и не дать окончательно заснуть дремлющим читателям, а отчасти для того, чтобы послужить приуготовлением или скорей увертюрой к бурным временам, надвигавшимся на мирную провинцию Новые Нидерланды и угрожавшим сонному правлению прославленного Воутера Ван-Твиллера. Так опытный сочинитель пьес, используя все скрипки, французские рожки, литавры и трубы своего оркестра, создает тот страшный адский грохот, который называется мелодрамой; так он, пуская в ход, гром, молнию, смолу и селитру, подготавливает появление духа или убийство героя. Теперь продолжим наш рассказ.
Сколько бы ни возражали Платон, Аристотель, Гроций, Пуффендорф, Сидни,[212 - Сидни, Олджернон (1622–1682) – английский политический деятель эпохи революции XVII в.] Томас Джефферсон[213 - Джефферсон, Томас (1743–1826) – американский политический деятель, президент США (1801–1809), идеолог демократического направления в освободительной борьбе американских колоний за независимость.] и Том Пейн,[214 - Пейн Томас (1737–1809) – американский публицист, политический деятель и просветитель, участник американской и французской революций. Он также принимал участие в демократическом движении в Англии.] я настаиваю, что в отношении народов старое правило «честность – лучшая политика» является чистейшим и гибельным недоразумением. Возможно, оно было достаточно верным в те честные времена, когда его изобрели; однако в наши развращенные дни, если народ вздумает положиться в своих действиях на одну только справедливость, он окажется до известной степени в положении честного человека среди воров, который имеет мало шансов извлечь пользу от своей компании, если он может уповать только на честность. Так во всяком случае обстояло дело с простодушным правительством Новых Нидерландов, которое, подобно почтенному доверчивому старому бюргеру, спокойно обосновалось в Новом Амстердаме, как в уютном кресле, и погрузилось в сладостную дремоту, а тем временем коварные соседи приходили и обчищали его карманы. Таким образом, начало всех бед нашей великой провинции и ее великолепной столицы мы можем приписать спокойной самонадеянности или, точнее говоря, злосчастной честности ее правительства. Так как, однако, я не люблю приступать к важному разделу моей истории в конце главы и так как мои читатели, подобно мне самому, должны были, несомненно, здорово устать от нашей длинной прогулки и от бури, нас застигшей, то я считаю, что нам пора закрыть книгу и выкурить трубку, а затем, освежив свои мозги, сразу приступить к делу в следующей главе.
ГЛАВА VI
Правдиво описывающая остроумных жителей Коннектикута и близлежащих мест. Показывающая, кроме того, истинное значение свободы совести и рассказывающая о забавной затее этих грубых варваров – поддерживать доброе согласие в общении и способствовать росту населения.
Для того, чтобы мои читатели могли полностью уразуметь размеры бедствия, нависшего в это самое мгновение над честной, ничего не подозревающей провинцией Новые Нидерланды и над ее сомневающимся губернатором, необходимо привести некоторые сведения об орде чужеземных варваров, живших за восточной границей.
что переведенное для блага современных законодателей на наш язык означает:
У той свиньи, которая смирна,
Бадья всегда помоями полна.
Итак, под трезвым руководством прославленного Ван-Твиллера и под мудрым надзором его бургомистров новорожденное поселение быстро росло, постепенно выступая из болот и лесов и являя взору ту смесь деревни и города, которая обычна для новых городов и в наши дни наблюдается в Вашингтоне[189 - Вашингтон. – Во времена Ирвинга, в начале XIX в., столица США Вашингтон только начинал застраиваться (город был основан в 1791 г.).] – огромной столице, имеющей столь величественный вид… на бумаге.
Ряды домов начали уже выстраиваться наподобие улиц и переулков; а повсюду, где оставались пустыри, они покрывались густыми зарослями сладко пахнущего дурмана, в просторечии называемого дурнишником. В этих душистых уголках честные бюргеры, как и многие патриархи древности, посиживали в знойные дни, покуривая трубку, вдыхая бальзамические запахи, приносимые каждым порывом ветра, и прислушиваясь с молчаливым удовлетворением к кудахтанью кур, гоготу гусей или к звучному хрюканью свиней. Звуки этой симфонии фермерского двора поистине можно было назвать серебряными, поскольку они внушали твердую надежду на хороший доход от базарного торга.
Наш современник, бродящий по оживленным улицам этого многолюдного города, едва ли может составить себе представление о тем, как непохоже было все в те первобытные дни. Деловитого гула торговли, шума буйного веселья, стука роскошных экипажей не знали в мирном поселке Новый Амстердам. Блеющие овцы и шаловливые телята резвились на поросшем зеленью гребне холма, где теперь их законные наследники, бродвейские ротозеи, совершают утреннюю прогулку; хитрая лисица или хищный волк скрывались в лесах, где теперь мы видим притоны Гомеса[190 - Гомес – богатый банкир в комедии Дж. Драйдена «Испанский монах» (1680).] и его честного братства менял; стаи крикливых гусей гоготали на поле, где теперь патриотическая таверна Мартлинга оглашается ссорами буйных сборищ.[191 - «Де Фриз упоминает о месте, где вытаскивали суда на берег для осмотра повреждений, и называет его Smits Vleye; в Нью-Йорке и до сегодняшнего дня существует площадь под этим названием, где построен рынок, называемый Флай-маркет». – Old MS.* Я думаю, что мало есть уроженцев этого большого города, которые мальчиками не были бы втянуты в знаменитую вражду между Бродвеем и Смит-Флай, послужившую темой столь многих базарных песенок и школьных стихов. – Издатель.*Старинная рукопись] Весь остров, во всяком случае в той части, что была заселена, цвел, как второй рай; при каждом доме был огород с капустой,[192 - …огород с капустой… – выращивание голландскими колонистами капусты было постоянным объектом насмешек в рассказах В. Ирвинга («Вольферт Веббер, или Золотые сны») и Э. По («Черт на колокольне»).] и эти съедобные овощи не только обещали щедрый запас кислой капусты, но и были эмблемой быстрого роста и степенных нравов молодой колонии.
Таковы мирные картины, наблюдаемые при тучных правителях. Провинция Новые Нидерланды, не обладая богатством, наслаждалась сладостным покоем, которого не купишь ни за какие деньги. Поистине казалось, что снова началось царствование старого Сатурна и опять наступили золотые дни первобытной простоты. Ибо, как говорит Овидий, золотой век совершенно не знал золота и именно по этой причине назывался золотым[193 - …золотой век не знал золота и поэтому назывался золотым… – слова французского публициста Адриана де Лезе-Марнезиа (1770–1814) из его книги «Мысли» (1797). Понятие «золотой век» восходит еще к Гесиоду и Овидию. Близкая мысль о золотом веке, когда не знали слов «твое» и «мое», содержится в XI главе первой части «Дон Кихота» Сервантеса.] веком, то есть счастливым, благоденственным веком, потому что тогда не существовало таких зол, порождаемых драгоценными металлами, как скупость, корыстолюбие, воровство, грабеж, ростовщичество, банкирские конторы, ссудные кассы, лотереи и еще целый список преступлений и бедствий. В железный век золото было в изобилии, вследствие чего он и назывался железным веком – из-за лишений, тягот, раздоров и войн, порождаемых жаждой золота.
Таким образом, веселые времена Воутера Ван-Твиллера могут быть справедливо названы золотым веком нашего города. Не было ни общественных волнений, ни частных ссор; ни партий, ни сект, ни расколов; ни судебных преследований, ни тяжб, ни наказаний; не было тогда ни адвокатов, ни стряпчих, ни сыщиков, ни палачей. Каждый занимался тем небольшим делом, которым ему посчастливилось владеть, или, не спрашивая мнения соседей, относился к нему спустя рукава, если ему того хотелось. В те дни никто не ломал себе голову над вопросами, которые были выше его понимания, и не совал своего носа в то, что его не касалось: никто в своем рвении очернить репутацию других не забывал исправлять собственное поведение и заботиться о собственной репутации. Одним словом, каждый уважаемый гражданин ел, когда не был голоден, пил, когда не испытывал жажды, и ложился в постель, когда заходило солнце и куры взбирались на насест, независимо от того, хотелось ему спать или нет. Все это, подтверждая теории Мальтуса, столь замечательно способствовало росту населения нашего города, что, как мне говорили, каждая примерная жена во всех семьях Нового Амстердама считала делом чести ежегодно дарить своему мужу по меньшей мере одного ребенка, а очень часто и двойню. В соответствии с любимой голландской поговоркой, что «больше, чем достаточно, уже пиршество», такое изобилие малышей явно говорило об истинно счастливой жизни. И вот, все шло так, как должно было идти, и, пользуясь обычным выражением, употребляемым историками для описания благоденствия страны, «глубочайшая тишина и спокойствие царили во всей провинции».
ГЛАВА III
О тем, как город Новый Амстердам поднялся из грязи и стал на удивление изысканным и учтивым, вместе с картиной нравов наших прапрадедов.
Разнообразны вкусы и склонности просвещенных людей, которые перелистывают страницы истории. Есть среди них такие, чье сердце полно до краев дрожжами отваги и чья грудь волнуется, пыжится и пенится безрассудной смелостью, как бочонок молодого сидра или как капитан гражданской гвардии, только что вышедший от своего портного. Такого рода доблестные читатели ничем не могут удовольствоваться, кроме кровавых битв и грозных стычек; они все время должны брать штурмом крепости, разорять города, взрывать мины, идти на врага под дулами пушек, на каждой странице бросаться в штыковую атаку и наслаждаться запахом пороха и резней. Другие читатели, обладающие менее воинственным, но столь же пылким воображением и вместе с тем склонные ко всему таинственному, останавливаются с огромным удовлетворением на описаниях невероятных событий, небывалых случаев, чудесных спасений, дерзких приключений, на всяких изумительных повествованиях, едва не переступающих границ правдоподобия. Читатели третьего рода, которые – мы не хотим сказать о них ничего предосудительного – отличаются более легкомысленным складом ума и скользят по рассказам о прошлом так же, как по назидательным страницам романов, просто для отдыха и невинного развлечения, питают особый интерес к изменам, казням, похищениям сабинянок,[194 - Сабинянки – женщины соседнего с Римом племени, которых римляне, согласно легенде, похитили во время празднества.] Тарквиниевым насилиям,[195 - Тарквиний (VI в. до н. э.) – по преданию, последний царь древнего Рима; его тираническое правление вызвало восстание в Риме. Тарквиний был изгнан и была установлена республика.] пожарам, убийствам и ко всем другим отвратительным преступлениям, придающим, подобно перцу при стряпне, остроту и вкус скучным подробностям истории. Читатели же четвертого рода, с более философскими наклонностями, прилежно изучают заплесневелые летописи прошлого, чтобы познать деяния человеческого ума и проследить постепенные перемены в людях и обычаях, обусловленные развитием знаний, превратностями судеб и влиянием обстоятельств.
Читатели первых трех родов мало что найдут для своего развлечения в спокойном правлении Воутера Ван-Твиллера, но я прошу их на время набраться терпения и примириться со скучной картиной счастья, благоденствия и мира, которую меня обязывает нарисовать мой долг правдивого историка; и я обещаю им, что как только мне представится возможность остановиться на чем-нибудь ужасном, необычном или невероятном, я постараюсь, чего бы мне это ни стоило, доставить им удовольствие. Условившись об этом, я с великой радостью обращаюсь к моим читателям четвертого рода – мужчинам, а, возможно, и женщинам, которые мне по душе: серьезным, философически настроенным и любознательным, любящим подробно разбирать характеры, начинать с первопричин и прослеживать историю народа сквозь лабиринт нововведений и усовершенствований. Такие читатели, разумеется, возжаждут узнать о начальной стадии развития только что родившейся колонии и о первобытных нравах и обычаях, преобладавших среди ее жителей в эпоху безоблачного правления Ван-Твиллера, то есть Сомневающегося.
Если бы я стал описывать во всех мелочах постепенный переход от грубой бревенчатой хижины к величественному голландскому дому с кирпичным фасадом, застекленными окнами и драночной крышей, от густых зарослей к огородам, приносившим обильные урожаи капусты, и от таящегося в засаде индейца к важному бургомистру, это было бы, вероятно, утомительно для моих читателей и, конечно, очень неудобно для меня; достаточно сказать, что деревья были вырублены, пни выкорчеваны, кусты уничтожены, и новый город постепенно возник среди болот и зарослей дурнишника, как громадный гриб, выросший на куче гнилой древесины. Так как мудрый магистрат, о чем мы упомянули в предыдущей главе, оказался не в состоянии принять какой-нибудь план постройки города, то коровы в похвальном порыве патриотизма взяли эту заботу на себя; идя на пастбище и возвращаясь с него, они проложили тропинки среди чащи, по обеим сторонам которых добрые люди построили свои дома. Это – одна из причин кривизны, причудливых поворотов и запутанных разветвлений, отличающих часть улиц Нью-Йорка еще и в наши дни.
Следует отметить, что граждане, бывшие ревностными сторонниками мингера Десятиштанного (или Тен Брука), раздосадованные отказом от его плана прорытия каналов, отдали дань своим склонностям и обосновались на берегах ручьев и протоков, извивавшихся в разных концах предназначенной к расчистке местности. Этим людям может быть, в частности, приписано создание первого поселения на Брод-стрит, которая первоначально была проложена вдоль ручья, в верхнем течении доходившего до вала, что теперь называется Уолл-стрит. Нижняя часть города вскоре стала очень оживленной и многолюдной, и со временем в центре ее был построен дом при перевозе,[196 - * Это здание несколько раз ремонтировалось и в настоящее время представляет собой маленький желтый кирпичный дом, значащийся под № 23 на Брод-стрит; он обращен фронтоном к улице и увенчан железным шпилем, на котором еще три-четыре года тому назад маленький железный паром исполнял обязанности флюгера.] в те дни именовавшийся «центром речной навигации».
Напротив, последователи мингера Крепкоштанника, не менее предприимчивые и более трудолюбивые, чем их соперники, поселились на берегу реки и с беспримерным упорством занялись постройкой маленьких доков и плотин, вследствие чего вокруг нашего города и возникло такое множество илистых западней. К этим докам отправлялись некогда старые бюргеры в те часы, когда с отливом берег обнажался и можно было вдыхать ароматные испарения ила и тины, которые, по их мнению, обладали подлинно целебным запахом и напоминали им о голландских каналах. Неутомимым трудам и похвальному примеру сторонников проектов последнего рода мы обязаны теми акрами искусственно образовавшейся суши, на которой построена часть наших улиц поблизости от рек и которая, если верить утверждениям кое-кого из ученых медиков нашего города, сильно способствовала возникновению желтой лихорадки.
Дома людей высшего класса обычно были построены из дерева, за исключением фронтона, сложенного из маленьких черных и желтых голландских кирпичей и обращенного всегда к улице, так как наши предки, подобно их потомкам, придавали большое значение внешнему виду и были известны тем, что показывали товар лицом. В доме всегда бывало изобилие больших дверей и маленьких окошек во всех этажах; о годе его постройки возвещали причудливые железные цифры на фасаде, а на коньке крыши торчал надменный маленький флюгер, посвящавший семью в важную тайну – куда дует ветер. Как и флюгера на шпилях наших колоколен, те флюгера показывали столько различных направлений, что ветер мог угодить на любой вкус; казалось, старый Эол наугад, как попало, развязал все свои мешки с ветрами,[197 - …Эол… развязал свои мешки с ветрами… – В «Одиссее» (X, 1-75) рассказывается о том, как властитель острова Эолии и повелитель ветров Эол подарил Одиссею кожаный мех, в котором были зашиты ветры, и как матросы Одиссея, полагая, что в мешке сокрыты сокровища, развязали его; вырвавшись на волю, ветры сбили корабль Одиссея с пути.] чтобы они порезвились вокруг этой ветреной столицы. Однако самые стойкие и благонадежные граждане всегда руководствовались флюгером на крыше губернаторского дома – разумеется, самым правильным, так как каждое утро доверенный слуга лазил наверх и направлял его в ту сторону, в какую дул ветер.
В эти славные дни простоты и веселья чистота была тем, к чему больше всего стремились в домашнем обиходе, и страсть к ней являлась общепризнанным отличительным свойством хорошей хозяйки – звания, бывшего предметом честолюбивейших мечтаний наших необразованных прабабушек. Парадная дверь отпиралась только в дни свадеб, похорон, в новогодний праздник, в день святого Николая или еще по какому-либо столь же важному случаю. Она была украшена блестящим медным молотком, причудливо выкованным иногда в форме собаки, а иногда львиной головы, и ежедневно начищалась с таким благочестивым пылом, что нередко изнашивалась из-за предосторожностей, принятых для ее сохранения. Весь дом постоянно был залит водой и в нем командовали швабры, веники и жесткие щетки; хорошие хозяйки в те дни были кем-то вроде земноводных животных, и плескаться в воде доставляло им такое огромное удовольствие, что один историк тех времен всерьез утверждает, будто у многих женщин его города появились перепонки между пальцами, как у уток; а у некоторых из них – он не сомневался, что смог бы подтвердить свои слова, если бы удалось произвести соответствующее исследование – можно было бы обнаружить русалочий хвост, но, по-моему, это просто игра воображения или, еще хуже, умышленное искажение действительности.
Парадная гостиная была sanctum sanctorum,[198 - Святая святых (лат.).] где страсти к наведению чистоты предавались без всякого удержу. В эту священную комнату никому не разрешалось входить, кроме госпожи и ее верной служанки, которые появлялись там раз в неделю, чтобы сделать тщательную уборку и привести все в порядок; при этом они всякий раз оставляли свои башмаки у дверей и благоговейно переступали порог в одних чулках. Они скребли дочиста пол, посыпав его тонким белым песком, который под взмахами щетки ложился причудливым узором из углов, кривых и ромбов, мыли окна, стирали пыль с мебели и наводили на нее глянец, клали новую охапку вечнозеленых веток в камин, затем снова закрывали ставни, чтобы не залетели мухи, и тщательно запирали комнату до той поры, когда круговращение времени вновь принесет еженедельный день уборки.
Что касается членов семьи, то они всегда входили через калитку и жили преимущественно в кухне. При виде многочисленных домочадцев, собравшихся вокруг очага, вы могли бы вообразить, что перенеслись в те счастливые дни первобытной простоты, которые золотыми видениями мелькают в наших мечтах. Очаг приобретал поистине патриархальную величавость, когда вся семья, стар и млад, хозяин и слуга, черный и белый и даже кошка с собакой пользовались одинаковыми привилегиями и имели освященное обычаем право на свой уголок. Там старый бюргер сиживал в полном молчании, попыхивая трубкой, глядя на огонь полузакрытыми глазами и часами ни о чем не думая; напротив него goede vrouw прилежно пряла свою пряжу или вязала чулки. Молодежь теснилась к печи и, затаив дыхание, слушала какую-нибудь старуху-негритянку, которая считалась семейным оракулом и, как ворон взгромоздившись в сторонке, длинными зимними вечерами рассказывала одну за другой невероятные истории о ведьмах Новой Англии, страшных привидениях, лошадях без головы, чудесных спасениях и о кровавых стычках между индейцами.
В те счастливые дни добропорядочная семья вставала с зарей, обедала в одиннадцать часов и ложилась спать на заходе солнца. Обед неизменно был семейной трапезой, и тучные старые бюргеры встречали явными признаками неодобрения и неудовольствия неожиданный приход соседа в это время. Но хотя наши достойные предки были вовсе не склонны устраивать званые обеды, все же для поддержания более тесных общественных связей они время от времени собирали гостей, приглашая их на чай.
Так как эти восхитительные оргии были тогда нововведением, впоследствии ставшим столь модным в нашем городе, то я уверен, что моим любезным читателям будет весьма интересно получить о них более подробные сведения. К сожалению, лишь немногое в моем описании сможет вызвать восторг читателей. Я не могу порадовать их рассказами о несметных толпах, блестящих гостиных, высоких плюмажах, сверкающих бриллиантах, громадных шлейфах. Я не могу привести занимательнейшие примеры злословия, так как в те первобытные времена простосердечные люди были либо слишком глупы, либо слишком добродушны, чтобы перемывать друг другу косточки. Я не могу рассказать также про забавные случаи хвастовства, про то, как одна леди плутовала, а другая приходила в ярость, ибо тогда еще не существовало компаний единомышленниц, состоявших из милейших старых вдов, которые встречаются за карточным столом, чтобы выигрывать чужие деньги и терять хорошее расположение духа.
В этих модных сборищах принимали участие преимущественно представители высших классов, то есть знати, иначе говоря, тех, у кого были свои коровы и кто правил собственными повозками. Гости обычно собирались в три часа и покидали радушных хозяев около шести, если только дело не происходило зимой, когда принято было собираться немного раньше, чтобы дамы могли вернуться домой засветло. Мне не удалось нигде обнаружить сведений о том, что хозяева когда-либо угощали своих гостей сливочным мороженым, желе и взбитыми сливками, либо потчевали их затхлым миндалем, заплесневелым изюмом и кислыми апельсинами, как это часто делается в нынешний утонченный век. Наши предки любили более плотную, существенную пищу. Посредине стола красовалось огромное фаянсовое блюдо, наполненное ломтями жирной свинины с румяной корочкой, нарезанными на куски и плававшими в мясной подливке. Гости усаживались вокруг гостеприимного стола и, вооружившись вилками, показывали свою ловкость, вылавливая самые жирные куски из этого громадного блюда – почти так, как моряки ловят острогой черепах в море или наши индейцы багрят лососей в озерах. Иногда стол ломился под гигантскими пирогами с яблоками или под мисками с заготовленными впрок персиками и грушами; и неизменно он мог похвалиться громадным блюдом с шариками из сдобного теста, жаренными в кипящем свином сале и называвшимися тестяными орехами или oly koeks[199 - Масляное печенье (голл.).] – чудесное лакомство, в настоящее время в нашем городе почти никому неизвестное, кроме истинно голландских семей, но по-прежнему занимающее почетное место на праздничных столах в Олбани.
Чай наливали из внушительного чайника делфтского фаянса с изображенными на нем толстенькими маленькими голландскими пастухами и пастушками, пасущими свиней, или лодками, плывущими в воздухе, домами, стоящими в облаках, и другими замысловатыми произведениями голландской фантазии. Кавалеры щеголяли друг перед другом ловкостью, с какой они наполняли этот чайник кипятком из большого медного котла, одного вида которого достаточно, чтобы бросить в пот карликовых франтов нашего выродившегося времени. Для подслащиванья чая возле каждой чашки клали кусок сахара, и все общество попеременно то отгрызало крошку сахара, то прихлебывало чай, пока одна изобретательная и экономная старая леди не внесла усовершенствование: прямо над столом на веревочке, спускавшейся с потолка, висел большой кусок сахара, до которого, когда его раскачивали, каждый мог дотянуться ртом – остроумный способ, все еще применяемый некоторыми семьями в Олбани и безраздельно царящий в Коммунипоу, Бергене, Флат-Буше и во всех других наших голландских деревнях, не зараженных новшествами.
Во время этих старинных праздничных чаепитий царили крайняя благопристойность и строгость поведения. Никакого флирта или кокетничания, ни карточных игр для пожилых дам, ни болтовни и шумных шалостей для молодых девиц. Здесь вы не услышали бы самодовольной похвальбы богатых джентльменов, которым толстая мошна заменяет ум, ни вымученных острот и обезьяньих шуточек франтоватых молодых джентльменов, у которых ум вовсе отсутствует. Напротив, молодые леди скромно усаживались на стулья с камышевым сидением и вязали принесенный с собой шерстяной чулок; они раскрывали рот лишь для того, чтобы сказать: «yah, Mynher»[200 - Да, сударь (голл.).] или «yah, ya Vrouw»[201 - Да, да сударыня (голл.).] в ответ на любой заданный им вопрос, и во всем вели себя как благопристойные, хорошо воспитанные барышни. Что касается джентльменов, то все они спокойно покуривали свои трубки и казались погруженными в созерцание синих и белых изразцов, которыми был облицован камин, с благочестиво изображенными на них сценами из священного писания. Чаще всего то были Товит с его собакой[202 - …Товит с его собакой… – по-видимому, у Ирвинга ошибка: собака была у Товия, сына Товита (Библия. Книга Товита, V, 17).] или Аман,[203 - Аман… – правитель библейского царя Артаксеркса, повешенный на виселице, которую он готовил своему врагу Мардохею (Библия. Книга Есфирь, V–VII).] в назидание всем болтающийся на виселице, и Иона, преотважно выскакивающий из кита, как арлекин, который прыгает сквозь пылающую бочку.
Гости расходились без шума и без всякой сутолоки, ибо, сколь странным это ни могло бы показаться, леди и джентльмены довольствовались тем, что надевали свои собственные плащи, шали и шляпы, не помышляя даже (какое простодушие!) об остроумной системе обмена нарядами, установившейся в наши дни; при ней уходящие первыми имеют возможность выбрать лучшую шаль или шляпу, какая им только попадется, – обычай, возникший, несомненно, из наших коммерческих повадок. Гостей доставляли домой собственные кареты, иначе говоря, перевозочные средства, дарованные им природой; исключение составляли лишь те богачи, которые могли позволить себе завести повозку. Джентльмены галантно сопровождали своих прекрасных дам до дверей их жилищ и громко целовали на прощание. Так как это было установлено этикетом и делалось с полнейшим простодушием и чистосердечием, то не вызывало тогда никаких пересудов и не должно было бы вызывать и в наши дни: если наши прадеды одобряли такой обычай, со стороны потомков было бы крайним неуважением возражать против него.
ГЛАВА IV
Содержащая дальнейшие подробности о золотом веке и рассказывающая о том, какими свойствами должны были обладать истинные леди и джентльмены во времена Вальтера Сомневающеюся.
В этот благословенный период моей истории, когда прекрасный остров Манна-хата являл взору точную копию тех ярких картин, какие нарисовал старый Гесиод, описывая золотое царство Сатурна, жители острова, среди которых господствовала чистосердечная простота, жили в состоянии счастливого неведения; если бы я даже сумел его изобразить, все равно оно вряд ли могло бы быть понятно в наш вырождающийся век, для которого мне суждено писать. Даже представительницы женского пола, эти главные противницы спокойствия, честности и седобородых общественных обычаев, временно проявляли небывалую рассудительность и благопристойность и вели себя поистине почти так, словно не были посланы в этот мир для того, чтобы причинять хлопоты человечеству, сбивать с толку философов и приводить в замешательство вселенную.
Их волосы, не истерзанные отвратительными ухищрениями искусства, были тщательно смазаны сальной свечой, зачесаны назад и прикрыты небольшим подбитым ватой коленкоровым чепцом, плотно сидевшим на голове. Их юбки из грубой полушерстяной ткани были обшиты пестрыми яркими полосами и могли соперничать с многоцветными одеяниями Ириды.[204 - Ирида – в древнегреческой мифологии вестница богов.] Впрочем, должен сознаться, эти прелестные юбочки были довольно короткие и едва прикрывали колени, что возмещалось их числом, которое обычно не уступало числу штанов у джентльменов. И что еще похвальнее, все юбки были собственной работы, и этим обстоятельством, как легко можно себе представить, женщины немало тщеславились.
То были прекрасные дни, когда все женщины сидели дома, читали Библию и имели карманы – да еще какие большие, отделанные пестрыми лоскутами, составлявшими многочисленные причудливые узоры и хвастливо носимые снаружи. Они действительно были удобными вместилищами, где все хорошие хозяйки заботливо прятали то, что им хотелось иметь под рукой, из-за чего карманы часто становились невероятно раздутыми. Я помню, как в дни моего детства ходил рассказ о том, что жене Воутера Ван-Твиллера довелось в поисках деревянной суповой ложки опорожнить правый карман, содержимое которого наполнило три корзины для зерна, а поварешка в конце концов была обнаружена среди всякого хлама в самом углу кармана. Впрочем, всем этим рассказам не следует придавать слишком большой веры, так как, когда дело идет о давно прошедших временах, люди всегда склонны к преувеличениям.
Кроме замечательных карманов, у женщин постоянно были при себе ножницы и подушечки для булавок, висевшие у пояса на красной ленте, а у более зажиточных и чванных на медной или даже серебряной цепочке – бесспорные признаки домовитой хозяйки или трудолюбивой девицы. Я мало что могу сказать в оправдание коротких юбок; без сомнения, они были введены с той целью, чтобы дать возможность увидеть чулки, которые обычно бывали из синей шерсти с роскошными красными стрелками, а может быть, чтобы открыть взорам красивой формы лодыжку и изящную, хотя и вполне пригодную для ходьбы ступню, обутую в кожаный башмак на высоком каблуке и с большой великолепной серебряной пряжкой. Таким образом, мы видим, что прекрасный пол во все времена одинаково стремился слегка нарушать законы приличия, чтобы выставить напоказ скрытую красоту или удовлетворить невинную любовь к щегольству.
Из приведенного здесь беглого очерка можно видеть, что наши славные бабушки по своим представлениям о красоте фигуры значительно отличались от своих скудно одетых внучек, живущих в наши дни. В те времена прелестная леди переваливалась с ноги на ногу под тяжестью одежды, которой даже в чудесный летний день на ней было больше, чем на целом обществе дам в современной бальной зале. Однако это не мешало джентльменам восхищаться ими. Напротив, страсть возлюбленного, по-видимому, усиливалась пропорционально объему ее предмета, и о дюжей девице, облаченной в дюжину юбок, местные стихоплеты, писавшие на нижнеголландском наречии, утверждали, что она сияет, как подсолнечник, и пышна, как полновесный кочан капусты. Как бы там ни было, в те дни сердце влюбленного не вмещало больше одной женщины зараз, между тем как сердце современного волокиты достаточно просторно, чтобы приютить полдюжины. Причина этого, по моему убеждению, состоит в том, что либо сердца мужчин стали больше, либо женщины стали мельче; впрочем, об этом пусть судят физиологи.
Но в этих юбках было какое-то таинственное очарование, которое, несомненно, влияло на благоразумного кавалера. В те дни гардероб леди был единственным ее достоянием; и та, у кого был хороший запас юбок и чулок, могла, безусловно, считаться богатой наследницей, подобно девице с Камчатки, обладательнице множества медвежьих шкур, или лапландской красавице с большим стадом северных оленей. Поэтому женщины всячески старались выставить напоказ эти могущественные приманки самым выгодным образом; да и лучшие комнаты в доме украшались не карикатурами на госпожу природу, в виде акварелей или вышивок, а были всегда в изобилии увешаны домотканой одеждой, изготовленной самими женщинами и им принадлежавшей, – образец похвального тщеславия, до сих пор наблюдаемого среди наследниц в наших голландских деревнях. Такими были прелестные красавицы старинного города Нового Амстердама, по первобытной простоте своих нравов соперничавшие со знаменитыми и благородными дамами, столь возвышенно воспетыми господином Гомером, который рассказывает нам, что царевна Навсикая[205 - Навсикая – дочь феакийского царя Алкиноя, с которой Одиссей после кораблекрушения встретился на берегу, куда Навсикая пришла стирать белье и играть в мяч с прислужницами («Одиссея», VI).] стирала белье всей семьи, а прекрасная Пенелопа[206 - Пенелопа – жена Одиссея, которая в течение двадцати лет ждала возвращения мужа и отклонила предложения многочисленных женихов, объявив, что выйдет замуж не раньше, чем закончит ткать свадебный наряд. Однако за ночь она распускала то, что успевала соткать днем.] сама ткала свои юбки.
Истинные джентльмены, вращавшиеся в кругах блестящего общества в те старинные времена, почти во всем были похожи на девиц, чьи улыбки они жаждали заслужить. Правда, их достоинства не произвели бы большого впечатления на сердце современной красавицы: они не катались в парных фаэтонах и не щеголяли в запряженных цугом колясках, ибо тогда об этих пышных экипажах еще и не помышляли; не отличались они ни особым блеском за пиршественным столом, ни последующими стычками со сторожами, так как наши предки были слишком мирного нрава, чтобы нуждаться в этих ночных блюстителях порядка, тем более, что к девяти часам в городе не оставалось ни одной живой души, которая не храпела бы во всю мочь. Не притязали они также на изящество, достигаемое с помощью портных, так как тогда эти посягатели на карманы людей изысканного общества и на спокойствие всех честолюбивых молодых джентльменов были в Новом Амстердаме неизвестны. Каждая хорошая хозяйка обшивала своего мужа и семью и даже сама goede vrouw Ван-Твиллер не считала для себя унизительным кроить мужу штаны из грубой шерсти.
Однако дело не обходилось без нескольких юнцов, которые обнаруживали первые проблески так называемого пылкого духа. Они презирали всякий труд, слонялись у доков и по рыночным площадям, грелись на солнце, проигрывали те небольшие деньги, которыми им удавалось разжиться, сражаясь в «орлянку» и в «ямочку», ругались, дрались на кулаках, устраивали петушиные бои и скачки на соседских лошадях, – короче говоря, подавали надежды стать предметом удивления, разговоров и отвращения для всего города, если бы их блестящая карьера, к несчастью, не обрывалась близким знакомством с позорным столбом.
Впрочем, действительно приличный джентльмен тех дней был далеко не таким. Как по утрам, так и по вечерам, на улице и в гостиной он появлялся в грубошерстном кафтане, изготовленном, возможно, прелестными ручками царицы его сердца и щедро украшенном множеством больших бронзовых пуговиц. Десяток штанов увеличивал объем его фигуры, на башмаках были огромные медные пряжки, широкополая шляпа с низкой тульей затеняла полное лицо и волосы болтались за спиной громадной косой в футляре из кожи угря.[207 - …в футляре из кожи угря. – По старинному поверью, кожа угря способствовала укреплению волос.]
В таком виде он отважно пускался в путь, чтобы подвергнуть осаде неумолимое сердце какой-нибудь девицы. Во рту у него, мой добрый читатель, была не флейта, вроде той, из которой Ацис извлекал сладкие звуки, восхваляя свою Галатею,[208 - Ацис… восхваляя свою Галатею… – Согласно легенде, сицилийский пастух Ацис любил Галатею и был убит циклопом Полифемом. Эта тема часто использовалась в античной пасторальной литературе. Ирвинг имеет в виду пастораль Джона Гея «Ацис и Галатея» (1731).] а настоящая делфтская трубка, набитая пахучим табаком самого низкого сорта. Вооружившись ею, он решительно становился перед крепостью и с течением времени ему почти всегда удавалось густыми клубами дыма принудить прекрасного врага к сдаче на почетных условиях.
Таково было счастливое правление Воутера Ван-Твиллера, воспетое во многих давно забытых стихах как подлинный золотой век, по сравнению с которым все остальные эпохи были лишь медной подделкой. В это чудесное время сладостный священный покой царил во всей провинции. Бургомистр мирно курил свою трубку; полновесное утешение его домашней жизни, его супруга, в многочисленных юбках, покончив с дневными делами, степенно сидела у дверей, скрестив руки на белоснежном переднике, и ее не оскорбляли ни прохожие грубияны, ни праздношатающиеся мальчишки – эти вредные сорванцы, которые наводняют наши улицы, скрывая под розами юности шипы и тернии беззакония. Тогда возлюбленный в десяти штанах и девица в десятке юбок, ничего не страшась и не вызывая осуждений, предавались всем невинным ласкам целомудренной любви, ибо чего могла опасаться та добродетель, что была защищена щитом из доброго грубошерстного сукна, равного по прочности по меньшей мере семи бычьим шкурам непобедимого Аякса.
Трижды счастливый век, который никогда не будет забыт! Когда все было лучше, чем стало потом и будет когда-либо впоследствии; когда пролив Баттермилк был совершенно сух при отливе; когда кроме лососей в Гудзоне не было другой рыбы и когда луна сияла чистой, лучезарной белизной, а не меланхолическим желтым светом, порождаемым тем, что ее тошнит от гнусностей, свидетельницей которых она каждую ночь бывает в этом погрязшем в разврате городе.
ГЛАВА V
В которой читателя заставляют совершить приятную прогулку, кончающуюся не так, как она началась.
В лето господне тысяча восемьсот четвертое во второй половине чудесного дня, выдавшегося в мягком месяце октябре, я совершил свою обычную прогулку на батарею, представляющую одновременно гордость и оплот старинного и неприступного города Нью-Йорка. Я хорошо помню, какое тогда было время года, так как оно непосредственно предшествовало исключительно холодной зиме, во время которой наши мудрые управители в порыве бережливой филантропии затратили несколько сот долларов, чтобы разобрать на части деревянные валы, стоившие несколько тысяч, и распределили гнилые куски бревен, не представлявшие ровно никакой ценности, среди дрожавших от холода городских бедняков. Никогда со времен падения стен Иерихона[209 - Иерихон – древний город в Палестине. По библейскому мифу, неприступные стены Иерихона рухнули от звука труб израильтян, завоевавших Палестину в конце 2-го тысячелетия до н. э. (Библия. Книга Иисуса Навина, VI, 19).] или построенных небожителями башен Трои мир не знал такого разрушения – и оно не осталось безнаказанным. Пятеро мужчин, одиннадцать старух и девятнадцать детей, не говоря уже о кошках, собаках и неграх, ослепли при тщетных попытках согреться дымом этой благотворительной замены топлива; кроме того возникла эпидемия глазных заболеваний, которая в дальнейшем возобновлялась каждую зиму, в особенности среди тех, кто пытался топить гнилыми бревнами, кто согревался благотворительностью своих ближних и кто пользовался патентованными каминами.
В названный выше год и месяц я по обыкновению прогуливался, погруженный в задумчивость, вдоль батареи, которая, хотя она теперь и не батарея, служит самым восхитительным местом прогулок и с которой открывается великолепнейший в мире вид. Земля под моими ногами была освящена воспоминаниями прошлого, и когда я медленно брел по длинным аллеям из тополей, которые подобно множеству стоящих торчком березовых метел отбрасывали печальную и мрачную тень, я размышлял о контрасте между окружавшим меня пейзажем и тем, что здесь было в классическую эпоху наших предков. Там, где ныне губернаторский дом по названию и таможня по назначению гордо вздымает свои кирпичные стены и деревянные колонны, некогда стоял приземистый, но прочный, крытый красной черепицей особняк прославленного Воутера Ван-Твиллера. Вокруг могучие бастионы крепости Амстердам вызывающе грозили любому отсутствующему врагу; однако, подобно многим усачам-воинам и отважным капитанам гражданской гвардии, ограничивающимся в своих ратных подвигах одними только угрозами, эти наводившие страх бастионы были уже давно разрушены временем и, как стены Карфагена, ничего уже не говорили испытующему взору археолога. Земляные брустверы давно были сравнены с землей; на их месте появились зеленые лужайки и тенистые аллеи, где веселый подмастерье щеголял своим воскресным костюмом, а трудолюбивый мастеровой, освободившийся от грязной, тяжелой работы, которой он был занят всю неделю, нашептывал извечную сказку любви слушавшей его краем уха чувствительной горничной. Обширная бухта по-прежнему расстилалась широкой водной гладью, усеянной островами, испещренной рыбачьими лодками и окаймленной прелестными, живописными берегами. Но темный лес, когда-то одевавший эти берега, был беспощадно уничтожен жестокой рукой землепашца; спутанные заросли и непроходимые чащи превратились в плодородные сады и волнующиеся хлебные поля. Даже Говернорс-Айленд, некогда веселый сад, принадлежавший властелинам провинции, был покрыт укреплениями, в том числе громадным блокгаузом, так что этот некогда мирный остров напоминал свирепого маленького воина в большой треуголке, пахнущего порохом и бросавшего вызов всему миру!
Некоторое время я пребывал в этом задумчивом настроении, со спокойной грустью сравнивая сегодняшний день с незапамятными благословенными годами, оплакивая печальные достижения цивилизации и восхваляя то рвение, с каким наши почтенные бюргеры пытаются сохранить остатки достойных уважения обычаев, предрассудков и заблуждений от всепоглощающих волн современных нововведений. Но вот постепенно мои мысли приняли другой оборот, и я незаметно пробудился к наслаждению окружавшей меня красотой. То был один из тех восхитительных осенних дней, какими небеса особенно часто дарят прекрасный остров Манна-хату и его окрестности. Ни одно даже самое легкое облачко не затемняло лазурный небосвод; солнце в сияющем великолепии совершало свой путь в эфире, и его честная голландская физиономия, казалось, приняла выражение необыкновенной доброжелательности, когда оно приветствовало вечерней улыбкой город, освещать который своими живительными лучами было для него наслаждением. Даже ветры как бы сдерживали дыхание в немом почтении, чтобы не потревожить покоя этого часа, и ничем не взволнованная гладь бухты представлялась сверкающим зеркалом, в которое природа смотрелась и улыбалась! Знамя нашего города, подобно лучшему носовому платку сохраняющееся для торжественных дней, неподвижно свисало с флагштока, напоминавшего ручку гигантской маслобойки. И даже трепещущие листья тополя и осины, как языки представительниц прекрасного пола редко пребывающие в неподвижности, теперь не дрожали под дуновением небес. Все словно разделяло глубокий покой природы. Громадные восемнадцатифунтовые пушки спали в амбразурах деревянных батарей, как бы собираясь со свежими силами, чтобы вести битвы за свою родину в следующее Четвертое июля.[210 - Четвертое июля – национальный американский праздник в честь провозглашения в 1776 г. «Декларации независимости» Соединенных Штатов Америки.] Одинокий барабан на Говернорс-Айленд забыл призвать гарнизон к лопатам, вечерняя пушка еще не подавала сигнала всем почтенным, благонамеренным курицам по всей округе усаживаться на насест; и флотилия лодок, стоявших на якоре между островом Виселицы и Коммунипоу, дремала над наметами и позволяла безобидным устрицам мирно лежать до поры до времени в мягком иле их родной отмели! Мои собственные чувства были в согласии с этим заразительным покоем, и я непременно задремал бы на одной из тех скамеек-коротышек, которые наш милостивый магистрат установил для блага гуляющих и выздоравливающих, если бы изумительное неудобство этого сидения не исключало подобной возможности.
Погруженный в успокоительную душевную дремоту, я вдруг обратил внимание на темное пятнышко, появившееся на западе, как раз позади Бергенской колокольни; постепенно оно увеличивается и нависает над будущими городами Джерси, Харсимус и Хобокен, которые, как три жокея, выстроившись рядом, готовятся к соревнованию за место под солнцем и в начале скачки натыкаются друг на друга. Вот темное пятно охватывает длинную полосу берега древней Павонии, простирая широкую тень от высоких зданий Уихоука до самого лазарета и карантина, воздвигнутого нашей мудрой полицией для затруднения торговли; вот оно карабкается по ясному небосводу, облако громоздится на облако, как волны, набегающие одна на другую, скрывая от глаз дневное светило, затемняя обширную часть горизонта и неся в своем лоне гром, град и бурю. Земля кажется взволнованной от этого смятения на небесах: прежде спокойное зеркало исхлестано бешеными волнами, которые с глухим ворчанием устремляют свои изломанные валы к берегу. Устричная флотилия, только что мирно покачивавшаяся близ Острова Виселицы, спешит теперь, испуганная, к берегу. Прежде гордый, непреклонный тополь гнется и раскачивается под безжалостным ветром. Низвергающиеся потоки проливного дождя и гулкий град затопляют и засыпают аллеи на батарее, под арками ворот спасается от бури толпа подмастерьев, служанок и французиков, прикрывающих шляпы носовыми платками. Недавно столь прекрасный ландшафт, теперь являет взорам картину беспорядка и дикого смятения, как будто снова воцарился древний Хаос и опять закружили в необъятном вихре враждующие стихии природы. Вообрази себе, о, читатель, страшную битву между Юпитером и титанами, воспетую старым Гесиодом,[211 - …воспетую старым Гесиодом… – В поэме «Теогония» Гесиода описывается победа Зевса (Юпитера) над титанами.] вообрази себе беспрестанный рев небесной артиллерии, бьющей по головам гигантских сыновей Земли. Короче говоря, вообрази себе все, что когда-либо говорили или пели о буре, шторме и урагане, и ты избавишь меня от труда описывать то, что происходило.
Убежал ли я от неистовства бури или храбро остался на своем посту, как наши доблестные капитаны гражданской гвардии, которые бесстрашно ведут своих солдат сквозь дождь, пусть решает читатель. Возможно, он тоже будет несколько смущен, недоумевая, почему я нарушил безмятежный дух моего труда, включив в него описание этой страшнейшей, неслыханной бури. По этому последнему пункту я готов охотно просветить его. Панорама, открывающаяся с батареи, была нарисована просто для того, чтобы порадовать читателя правильным описанием этого знаменитого места и его окрестностей; во-вторых, шторм разыгрался отчасти для того, чтобы внести некоторое разнообразие и живость в эту спокойную часть моего труда и не дать окончательно заснуть дремлющим читателям, а отчасти для того, чтобы послужить приуготовлением или скорей увертюрой к бурным временам, надвигавшимся на мирную провинцию Новые Нидерланды и угрожавшим сонному правлению прославленного Воутера Ван-Твиллера. Так опытный сочинитель пьес, используя все скрипки, французские рожки, литавры и трубы своего оркестра, создает тот страшный адский грохот, который называется мелодрамой; так он, пуская в ход, гром, молнию, смолу и селитру, подготавливает появление духа или убийство героя. Теперь продолжим наш рассказ.
Сколько бы ни возражали Платон, Аристотель, Гроций, Пуффендорф, Сидни,[212 - Сидни, Олджернон (1622–1682) – английский политический деятель эпохи революции XVII в.] Томас Джефферсон[213 - Джефферсон, Томас (1743–1826) – американский политический деятель, президент США (1801–1809), идеолог демократического направления в освободительной борьбе американских колоний за независимость.] и Том Пейн,[214 - Пейн Томас (1737–1809) – американский публицист, политический деятель и просветитель, участник американской и французской революций. Он также принимал участие в демократическом движении в Англии.] я настаиваю, что в отношении народов старое правило «честность – лучшая политика» является чистейшим и гибельным недоразумением. Возможно, оно было достаточно верным в те честные времена, когда его изобрели; однако в наши развращенные дни, если народ вздумает положиться в своих действиях на одну только справедливость, он окажется до известной степени в положении честного человека среди воров, который имеет мало шансов извлечь пользу от своей компании, если он может уповать только на честность. Так во всяком случае обстояло дело с простодушным правительством Новых Нидерландов, которое, подобно почтенному доверчивому старому бюргеру, спокойно обосновалось в Новом Амстердаме, как в уютном кресле, и погрузилось в сладостную дремоту, а тем временем коварные соседи приходили и обчищали его карманы. Таким образом, начало всех бед нашей великой провинции и ее великолепной столицы мы можем приписать спокойной самонадеянности или, точнее говоря, злосчастной честности ее правительства. Так как, однако, я не люблю приступать к важному разделу моей истории в конце главы и так как мои читатели, подобно мне самому, должны были, несомненно, здорово устать от нашей длинной прогулки и от бури, нас застигшей, то я считаю, что нам пора закрыть книгу и выкурить трубку, а затем, освежив свои мозги, сразу приступить к делу в следующей главе.
ГЛАВА VI
Правдиво описывающая остроумных жителей Коннектикута и близлежащих мест. Показывающая, кроме того, истинное значение свободы совести и рассказывающая о забавной затее этих грубых варваров – поддерживать доброе согласие в общении и способствовать росту населения.
Для того, чтобы мои читатели могли полностью уразуметь размеры бедствия, нависшего в это самое мгновение над честной, ничего не подозревающей провинцией Новые Нидерланды и над ее сомневающимся губернатором, необходимо привести некоторые сведения об орде чужеземных варваров, живших за восточной границей.