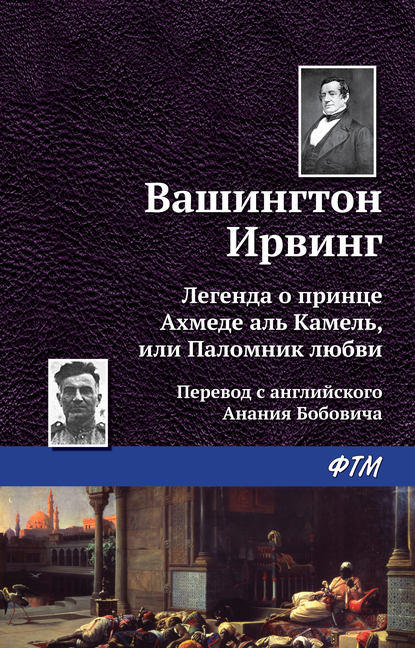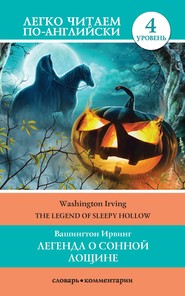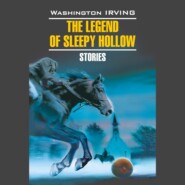По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Легенда о принце Ахмеде Аль Камель, или Паломник любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вашингтон Ирвинг
Вашингтон Ирвинг – первый американский писатель, получивший мировую известность и завоевавший молодой американской литературе «право гражданства» в сознании многоопытного и взыскательного европейского читателя, «первый посол Нового мира в Старом», по выражению У. Теккерея. Ирвинг явился первооткрывателем ставших впоследствии магистральными в литературе США тем, он первый разработал новеллу, излюбленный жанр американских писателей, и создал прозаический стиль, который считался образцовым на протяжении нескольких поколений. В новеллах Ирвинг предстает как истинный романтик. Первый романтик, которого выдвинула американская литература.
Вашингтон Ирвинг
Легенда о принце Ахмеде Аль Камель, или Паломник любви
Жил когда-то мавританский султан, повелитель Гранады, и был у него единственный сын, которого он назвал Ахмедом; придворные добавили к этому имени «Аль Камель», то есть «совершенный», ибо с первых же дней младенчества они заметили в нем несомненные признаки сверхисключительных качеств. Астрологи, посулив ему все, что полагается совершенному принцу и преуспевающему владыке, еще больше укрепили их в этом предвидении. Лишь одно-единственное облачко застилало его судьбу, но и оно, в сущности, было окрашено в розовый цвет: ему предсказали, что он будет влюбчив и, воспылав нежною страстью, претерпит великие бедствия. Впрочем, если его сумеют уберечь от соблазнов любви до достижения им зрелого возраста, эти бедствия удастся предотвратить и вся его дальнейшая жизнь будет непрерывной прогулкой по стезе счастья.
Стремясь раз навсегда избавиться от опасности подобного рода, мудрый султан решил воспитать сына в полном затворничестве, дабы он не только никогда не увидел женского личика, но даже не услышал самого слова «любовь». С этой целью на вершине горы, что подымается над Альгамброй, среди прелестных садов он построил роскошный дворец и окружил его высокими стенами; кстати, это тот самый дворец, который ныне известен под именем Хенералифе. В этом дворце и поместили юного принца, отдав его под надзор и доверив его воспитание Эбен Бонабену, одному из глубокомысленнейших и наиболее сухих арабских философов, проведшему большую часть своей жизни в Египте, где он изучал иероглифы и занимался исследованием пирамид и гробниц, находя неизмеримо больше очарования в египетской мумии, чем в самой обольстительной между живыми красавицами. Мудрецу было велено обучить принца всем отраслям знаний, кроме одной – юноше надлежало остаться круглым невеждой в науке любви.
– Прими любые, необходимые на твой взгляд, меры предосторожности, – сказал султан, – но помни, о Эбен Бонабен, что, если сын мой, находясь на твоем попечении, постигнет хоть что-нибудь из этой запретной области знания, ты мне ответишь за это своей головой.
При этой угрозе по высохшему лицу мудрого Бонабена пробежала безжизненная усмешка.
– Пусть ваше величество будет столь же спокойно за сына, как я за свою голову. Разве похож я на человека, дающего уроки пустой и суетной страсти?
И вот под бдительным оком философа принц уединенно рос в тиши дворца и садов. Его, правда, неизменно сопровождали черные рабы – страшные и немые, но ведь они ровно ничего не понимали в любви, а если и понимали, то у них не было слов, чтобы сообщить о ней принцу. Его умственное развитие – вот о чем больше всего заботился Эбен Бонабен, стремившийся посвятить его в сокровенную науку Египта, но принц обнаруживал в этом весьма посредственные успехи, и вскоре стало вполне очевидным, что он не имеет склонности к философии.
Для юного принца он был даже слишком послушлив, готов следовать любому совету и всегда внимал последнему из советчиков. Он подавлял зевоту и терпеливо выслушивал длинные ученейшие рацеи Эбен Бонабена, от которого перенял множество разнообразных поверхностных знаний. Так, живя тихо и мирно, он благополучно достиг своего двадцатого года, являясь среди принцев чудом премудрости, но в то же время круглым невеждой во всем, что касалось любви.
Приблизительно в это время в поведении принца произошла, однако, резкая перемена. Он совершенно забросил занятия и принялся бродить по садам и мечтать у фонтанов. Кроме своих разнообразных познаний, он обладал также некоторым пониманием музыки: теперь она поглощала большую часть его времени, и у него явно обнаружились поэтические наклонности. Мудрый Эбен Бонабен не на шутку встревожился и постарался побороть эти праздные настроения с помощью суровой и строгой алгебры, но принц отвернулся от нее с явным неудовольствием.
– Я не выношу алгебры, – сказал он, – она внушает мне отвращение. Я хочу чего-нибудь, что больше говорило бы моему сердцу.
Выслушав эти слова, мудрый Эбен Бонабен покачал своей высохшей головой. «Пришел конец философии, – подумал он. – Принц открыл в себе сердце». Он еще пристальнее начал следить за своим питомцем и обнаружил, что скрытая нежность его натуры рвется наружу и что ей недостает лишь предмета, на который она могла бы излиться. Принц блуждал по садам Хенералифе в душевном смятении, о причине которого не догадывался. Иногда он погружался в сладостные мечты; то он брался за лютню и извлекал из нее изумительно трогательные, хватающие за душу звуки, то внезапно отбрасывал ее прочь и предавался вздохам и горестным восклицаниям.
Любовное томление, овладевшее принцем, со временем нашло для себя отдушину в обожании неодушевленных предметов: у него появились излюбленные цветы, которые он лелеял с нежным постоянством; затем он особенно привязался к некоторым деревьям, в особенности одно среди них – стройное, с поникшей листвой – вызывало с его стороны влюбленное поклонение; он вырезывал на его коре свое имя, увешивал его ветви гирляндами и пел под аккомпанемент лютни сложенные во славу его романсы.
Мудрого Эбен Бонабена не на шутку встревожило возбужденное состояние, в котором пребывал его ученик. Он видел его у самой грани запретного знания: малейший намек мог открыть ему страшную тайну. Дрожа за благополучие принца и целость собственной головы, он поторопился отвлечь его от скрытых в саду соблазнов и запер в самой высокой башне Хенералифе. В ней было много роскошных покоев, из которых открывался почти безграничный вид на окрестности, но она высоко подымалась над царством неги и чарующих, однако коварных беседок и павильонов, столь опасных для чрезмерно чувствительного Ахмеда.
Но что же такое придумать, чтобы примирить его с заключением и скрасить долгие, томительные часы? Не говоря уже об алгебре, он исчерпал почти все науки, способные доставлять приятное развлечение. К счастью, Эбен Бонабен еще в Египте изучил язык птиц – ему преподал его один еврейский раввин, унаследовавший эти редкостные познания по прямой линии от Соломона Премудрого, в свою очередь обучившегося этому языку у царицы Савской. При одном упоминании о такого рода занятиях глаза принца загорелись воодушевлением, и он с таким жаром взялся за дело, что вскоре достиг в этой области столь же высокого совершенства, как и его учитель.
Башня Хенералифе перестала быть для него местом одиночного заключения; он имел теперь в изобилии собеседников, с которыми мог разговаривать. Первый, с кем свел он знакомство, был ястреб, гнездившийся в выемке между высокими стенными зубцами, откуда он вылетал далеко и надолго, высматривая добычу. Впрочем, он не внушил принцу ни уважения, ни любви. Это был самый обыкновенный воздушный пират, хвастливый и чванный, который только и толковал что о грабеже, разбое и отчаянных подвигах.
Вслед за тем познакомился он с совою. Это была чрезвычайно важная птица с весьма глубокомысленной внешностью, огромною головой и уставленными в одну точку глазами, которая, щурясь и мигая, целый день неподвижно сидела в расщелине стены и слонялась где-то всю ночь напролет. Она мнила себя философом, любила потолковать об астрономии и луне, намекала, что ей не чужды магия и чернокнижие, увлекалась метафизикой; принц нашел ее разглагольствования еще более тяжеловесными, чем рассуждения великого мудреца Эбен Бонабена.
Там была еще летучая мышь, висевшая в течение дня вниз головой в темном углу у основания свода и выбиравшаяся оттуда ужасной растрепой лишь с наступлением сумерек. У нее, однако, относительно всего были какие-то сумеречные понятия: она насмехалась над тем, о чем имела неверное представление, и ничто, по-видимому, ее не радовало.
Кроме них, была еще ласточка, от которой вначале принц был без ума. Она была остроумной, веселою говоруньей, но при этом невероятно непоседливой, суетливой, всегда на отлете. Она почти никогда не задерживалась для сколько-нибудь связной беседы, и в конце концов выяснилось, что она – просто невежда, скользит по поверхности вещей и явлений, полагая, что знает решительно все, тогда как в действительности ничего толком не знала.
Вот перечень тех пернатых друзей, с которыми принцу случалось упражняться в недавно усвоенном языке: башня была слишком высокой, чтобы ее могли посещать и другие птицы. Его новые знакомцы, впрочем, вскоре ему наскучили, ибо беседа с ними очень мало говорила уму и ничего сердцу; вот почему он понемногу вернулся к своему прежнему одиночеству. Миновала зима; в пышном цветении, в зелени, напоенная дыханием свежести, распустилась весна; для птиц настала счастливая пора свадеб и гнездования. Внезапно в сады и рощи Хенералифе, можно сказать, ворвались песни, чириканье и щебетанье; они донеслись и к принцу в уединение его башни. Со всех сторон он слышал все то же: любовь, любовь, любовь – о ней пели, ей отвечали в бесконечном многообразии голосов и звуков. Принц молча и в недоумении вслушивался. «Что представляет собой эта любовь, которой, по-видимому, полон весь мир и в которой я ничего не смыслю?» За разъяснениями он обратился к своему приятелю – ястребу. Хищная птица ответила презрительным тоном:
– Тебе следует обратиться к мирным птицам земли, созданным для того, чтобы служить добычею нам, князьям воздуха. Мое ремесло – война, мое наслаждение – в битвах. Я воин и ровно ничего не смыслю в том, что зовется любовью.
С омерзением отошел принц от ястреба и отыскал сову в ее темном убежище. «Эта птица, – подумал он, – ведет мирную и спокойную жизнь, и она, вероятно, сможет разрешить мой вопрос». Он попросил сову разъяснить ему, что такое любовь, о которой все птицы распевают в рощах внизу. В ответ сова взглянула на него с видом оскорбленного достоинства.
– Мои ночи, – молвила она, – посвящены ученым трудам и исследованиям, а дни – размышлению у себя в келье о том, что я изучила. Что же касается певчих птиц, о которых ты говоришь, я никогда не слушаю их; я презираю их и их песни. Хвала Аллаху! Я не могу петь. Я – философ и ничего не смыслю в том, что зовется любовью.
Принц направился к своду, где вниз головой висела его приятельница летучая мышь; он обратился к ней с тем же вопросом. Летучая мышь наморщила нос, весь ее облик изобразил крайнее раздражение.
– Зачем ты потревожил мою утреннюю дремоту столь праздным вопросом? – Сердито пропищала она. – Я летаю лишь в сумерки, когда птицы давным-давно спят, я не утруждаю себя их делами. Я не птица и не животное, благодарение небу! Я обнаружила низость и подлость как тех, так и других; я ненавижу каждого из них в отдельности и всех взятых вместе. Одним словом, я мизантроп и ничего не смыслю в том, что зовется любовью.
Последнею надеждою принца была веселая ласточка; он разыскал ее и окликнул в то мгновение, когда она кружилась над верхушкою башни. Ласточка, как обычно, страшно спешила и едва нашла время, чтобы бросить ему в ответ:
– Честное слово, у меня такая уйма общественных дел, я так занята, что не имела времени подумать над этим вопросом. Ежедневно мне необходимо отдать тысячу визитов, вникнуть в тысячу исключительно важных дел, у меня не остается ни минутки досуга для таких мелочей, как какие-то птичьи песенки. Одним словом, я гражданка вселенной и ничего не смыслю в том, что зовется любовью. – Произнеся эти слова, она нырнула в долину и через мгновение скрылась из глаз.
Принц был разочарован в своих упованиях и совершенно сбит с толку, но его любопытство, встретившись с трудностями, разгорелось с еще большею силою. Случилось, что в то самое время, когда он бился у себя наверху над этим неразрешимым вопросом, к нему поднялся его давний учитель и страж. Принц поспешил навстречу.
– О Эбен Бонабен, – вскричал он нетерпеливо, – ты открыл мне многое из земной мудрости, но есть одна вещь, в которой я сущий невежда, и я хотел бы, чтобы ты ее разъяснил.
– Пусть мой принц задаст свой вопрос, и все, что доступно разуму его преданного слуги, – в его полном распоряжении.
– Скажи мне в таком случае, о глубокомысленнейший из мудрецов, в чем сущность вещи, которая зовется любовью?
Эбен Бонабен, казалось, был поражен громом. Он задрожал и стал белый как полотно, ему почудилось, что его голова едва держится на плечах.
– Кто подсказал моему принцу подобный вопрос? Где он выучился этому нелепому слову?
Принц подвел его к окну башни.
– Послушай-ка, о Эбен Бонабен, – сказал он.
Мудрец принялся слушать. Внизу, в чаще, у самого подножия башни соловей пел своей возлюбленной розе, – с каждой цветущей ветки, из каждой рощицы неслись сладостные мелодии, – и любовь, любовь, любовь была неизменной темой всех этих песен.
– Алла акбар! Велик Аллах! – воскликнул Эбен Бонабен. – Кто осмелится утверждать, что он в силах скрыть от сердца мужчины эту великую тайну, если даже птицы небесные – и те составили заговор, чтобы выдать ее?
Затем, повернувшись к Ахмеду, он торопливо проговорил:
– О мой принц, заткни уши, не слушай этих соблазнительных песен! Замкни ум от этого опасного знания! Знай, что любовь – причина половины бедствий несчастного человечества. Это она сеет вражду и распри между братьями и друзьями, она виновница предательских убийств и опустошительных войн. Заботы и горе, тоскливые дни и бессонные ночи – вот ее спутники. Она губит едва расцветшую душу, отравляет радости юноши и приносит с собою болезни и страдания преждевременной старости. Да сохранит тебя всемогущий Аллах, мой принц, в полном неведении относительно того, что зовется любовью!
Мудрый Эбен Бонабен поспешно ретировался, покинув принца в еще большем недоумении. Тщетно пытался принц избавиться от мучившего его неотступно вопроса, – он все сильнее и сильнее овладевал его мыслями и томил бесплодными и пустыми догадками. «Разумеется, – говорил он себе, прислушиваясь к сладостному пению птиц, – разумеется, в этих звуках нет и следа какой-нибудь горести: все говорит о нежности и счастье. Если любовь действительно причина зла и вражды, то почему же все эти птицы не чахнут в уединении или не разрывают друг друга в клочья, но беззаботно порхают в рощах и резвятся среди цветов?»
Однажды утром, еще не встав со своего ложа, он мучительно размышлял над своей неразрешимой загадкой. Окно его комнаты было раскрыто, в него вливался мягкий утренний ветерок, напоенный ароматом цветущих в долине Дарро апельсиновых деревьев. Едва-едва слышалось пение соловья, который пел о том же, о чем пел всегда. Принц прислушивался к нему и вздыхал. Вдруг до него донеслось громкое хлопанье крыльев: красавец голубь, спасаясь от ястреба, стремительно влетел в окно и, задыхаясь, упал на пол, между тем как преследователь, упустив добычу, унесся стрелою в сторону гор.
Принц поднял изнеможенного голубя, пригладил перышки, согрел у себя на груди. Когда же голубь, возвращенный к жизни его ласками и заботами, пришел немного в себя, он поместил его в золотую клетку и предложил ему из собственных рук чистейшей, отборной пшеницы и самой прозрачной воды. Голубь, однако, отказался от пищи: печальный и тоскующий, он горько стенал.
– Что же удручает тебя? – спросил Ахмед. – Или нет у тебя всего, что может пожелать твое сердце?
– Увы, нет! – грустно ответил голубь. – Разве я не разлучен с подругою моего сердца, и притом в счастливую весеннюю пору, как раз в самое время любви?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: