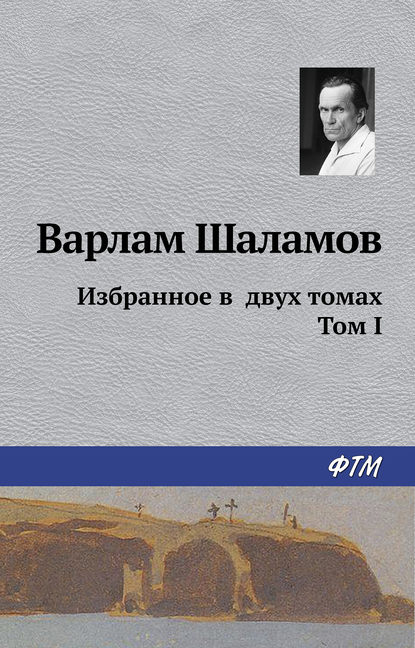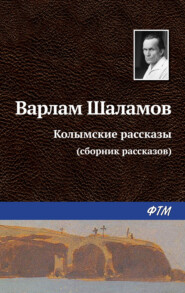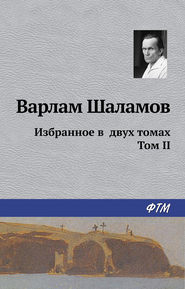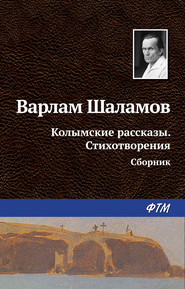По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное в двух томах. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бабушка, не ложись. Мама идет, обед собирать будем.
Последнее время за обедом у Анны Власьевны было много беспокойства.
Она ворчала:
– Что это мне в отдельной тарелке? Или я заразная какая?
– Все так едим, маманя. Дай руку, покажу.
Волновалась:
– Что это вы каждый день мясо и мясо?
– Ешь, бабушка.
Или хитрила:
– Алексей! Как ноне рожь-то? Принеси колос…
– Зачем?
– Хлеб что ли у вас растет какой особенный?
– А что?
– Вот кровать с шишками купили…
Старуха завела привычку: оставаясь одна, она передвигалась по комнате и ощупывала новые вещи. Однажды ощупала большое зеркало и заплакала. Эта менявшаяся география избы тревожила слепую. Годами она двигалась уверенно, как зрячая, и вдруг натыкалась на гнутые стулья, на комод, на новый кованый сундук. «Оставьте угол-то мой в покое», – просила она детей.
– Хлеб да соль.
– Вот Федя, бабушка.
– Ишь, голос-то какой густой. Дьяконский. Ну, подойди, подойди, дай я тебя потрогаю. Экие лапищи.
– Ну что, Анна Власьевна? Все пава за павой?
– Пава и древо, дурень. Пава за павой – иной сколок – проще…
Фёдор Карпушев, соседский сын, чтобы поразить будущих родственников, облачился в блестящий белый халат. По-московски любезничая, по-родному «окая», он усаживал старуху перед окном.
– Пожалуйста, Анна Власьевна, сюда сядьте… Повыше голову поднимите. Вы – мой первый пациент на родине.
– Пациент, – ворчала старуха, довольная почетом. – Пациент. Пахать надо. Фершал.
– Анна Власьевна, а вы врачей своевременно посещали?
– Чего?
– Вы глаза обследовали у врачей?
– Чего?
– В околотке, я говорю, бывала с глазами? – заорал Фёдор.
– В околоток-то ходила. Капли какие-то пахучие дали. Баили: табак бы нюхала, глаза-то и целы были. Да ведь не я первая. Кружевницы-то тонких узоров все глазами мучаются. Вот сноха-то Карпушева Ивана Павловича в Николин день…
Фёдор грохотал рукомойником.
– Знаешь, бабушка, твои глаза поправить можно. Операцию надо делать. Катаракт это…
– Полно брехать-то над старухой. У лавочника у нашего, у Митрия, катарак-то в желудке был, ему Мокровской, дай господи светлой памяти, городской-то доктор, два раза резал, а все умер Митрий. Я ему так и говорила: все равно умрешь, черт, мало ты над кружевницами изгилялся. По 300 кружевниц на него работало.
– Да не рак, а катаракт, бабушка.
– Все одно…
Но старуху уговорили. Анна Власьевна пришла в благодушное настроение и допытывалась у Фёдора:
– А косить можешь?
– Мало я косил…
– Ну, тогда лечи.
– К профессору отвезем.
– А профессор твой – может косить?
– Не знаю. Не может, наверное…
– Ну, все одно… Вези. Только коклюшки я с собой возьму.
Фёдор увез старуху в Москву, а через два месяца написал, что операцию делал самый знаменитый профессор, что Анна Власьевна ВИДИТ. Потихоньку вертит коклюшками, а присмотреть за ней некому. Москва ей не понравилась: «не ослепнешь, так оглохнешь», и что через неделю думает он отвезти Анну Власьевну на Ярославский вокзал и посадить в поезд.
Но старуха приехала раньше, не вытерпела.
В стеклянный осенний день на полустанке вылезла она из вагона. Шофер закричал с грузовика:
– Садись, подвезу, бабушка. Тут ближе 10 верст нет деревень…
– Спасибо, сынок. Я и пешей дойду…
По тропке вдоль серых больших стогов дошла она до своей деревни. На околице хмурый бондарь стругал доски для огромного бака.
– Где тут Волоховы живут?
– Тут полсела Волоховых…