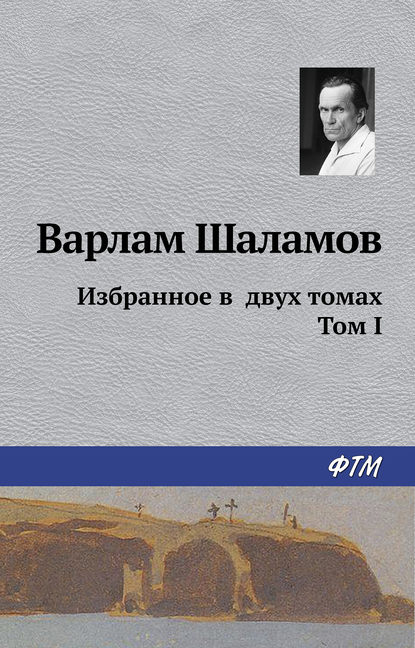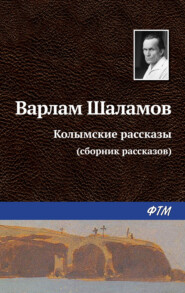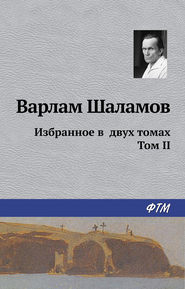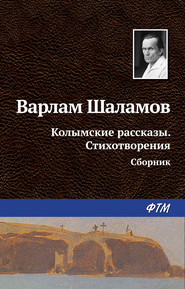По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное в двух томах. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сколько?
– Норма, профессор.
– Выписывайте. О вас слишком заботятся, больной. Сразу после приключения – свинцовая примочка, рюмка портвейна и вы могли продолжать ваши апелляции к совести прекрасной Франции.
Господин Бержере лежал, счастливо улыбаясь. Он знал, что профессор любит шутить. На столике стояла ветка сирени. Господин Бержере вдыхал запах весны. Он снял пенсне и закрыл глаза, пытаясь честно припомнить «приключение». Как это трудно – честно вспомнить. Бержере столько раз рассказывал свою историю врачу, соседям, что знал ее наизусть и вспоминал уже свой рассказ, а не событие. Но сейчас – для себя – он попробует вспомнить все – без рамплиссажей, как говорят музыканты. На площади, у сквера, где любил гулять Бержере, – много людей. На бульварной скамейке стоит оратор. Шея его замотана рваным цветным шарфом. Бержере прислушивается. Нет, он не одобряет таких разговоров. Дома в халате, за стаканом старого вина, в кругу друзей – это допустимо. Но на улице? Перед незнакомыми людьми? Вздор. Он вовсе не говорит речь, этот оратор. Он читает вслух газету. Бержере подходит ближе. «Юманите». Господин Бержере – подписчик «Эвр», солидного издания. Читать «Эвр», все равно что быть вкладчиком банка Ротшильда. Никаких крахов, никаких банкротов, но «Юманите»?
Чтение прерывается. Все, вытянув шеи, глядят на другую сторону площади. Отряд конных полицейских скачет к скверу. «Убегайте», – кричит Бержере. Но люди не бегут. Они стягиваются друг к другу. Молодой парень поднимает булыжник.
– Сражаться с полицией? – спрашивает Бержере. – Республика…
– Вам не место здесь, мсье, – говорит человек в шарфе. Конный отряд близко. Слышен легкий визг вынимаемых сабель. Грязь из-под копыт лошадей брызжет на новое пальто господина Бержере. Солнечный зайчик от сабли полицейского на мгновение ослепляет Бержере. Затем он видит падающего человека. Господин Бержере поворачивается к тесно сомкнувшимся людям, к нахмуренным бровям и крутым скулам и выкрикивает слова о человечности, любви, традициях Республики, долге граждан великой Франции. Молодой парень отшвырнул Бержере в строну. Бержере увидел ветви дерева, облако и много после – куртку санитара.
* * *
– Господин Бержере, – сказал ассистент, прощаясь. – Вот добрый совет врача: не мешайтесь не в свои дела.
Бержере возмущенно пожал плечами. Он плохо воспитан, этот молодой человек.
Улица открылась плотным весенним воздухом, капелью и шумом многотысячной толпы. Не соблюдая рядов, заполняя тесной толпой мостовую, тротуары, шли демонстранты. И нестройный шаг не мешал им выкрикивать хором, как под взмахи руки невидимого дирижера, слова угроз и обещания мести. У фонарного столба стояла девушка. Из-под весенней шляпки прошлогодней моды выбивались вьющиеся желтые волосы. Она раздавала проходящим какие-то листки. Бержере, умиленный выздоровлением, солнцем, пестротой толпы, широко улыбался – девушке, городу, миру. И девушка улыбнулась и протянула ему листок.
Толпа редела, выкрики отошли за несколько кварталов, появился полицейский. И Бержере увидел: с противоположного тротуара двинулся стройный человек легкой походкой танцора. За ним прошли еще несколько людей в пальто, плотно облегавших их прямые спины и выгнутые торсы.
– Прекрасный день, мадмуазель, – вежливо сказал Бержере, приподнимая шляпу. Почему не поговорить с хорошенькой девушкой?
– Да, мсье, – ответила она рассеянно и, вздрогнув, оглянулась. Она была окружена. Один из тех – с другой стороны улицы – ударил девушку в лицо. Он ударил ее быстро, только один раз. И вместо неправильных и прелестных черт на господина Бержере смотрела с земли кровавая маска, бифштекс из мясной лавки. Человек с фигурой танцора прицеливался каблуком в голову девушки, окруженную нимбом разметавшихся золотых волос.
Господин Бержере бросился к девушке, но от толчка в бок отлетел к стене дома.
– Вы бьете женщину, – крикнул Бержере, задыхаясь.
– Она – коммунистка!
– Она – человек!
– Человек? Пьер, вот еще один коммунист.
– Я не коммунист, – хотел сказать Бержере, но не успел, потеряв сознание.
* * *
– Вот так штука, профессор. Господин Бержере вернулся. На этот раз надолго.
– Дон Кихот уличных сражений, а?
Господин Бержере лежал на санитарных носилках. Кусочек стекла пенсне засел в коже надбровной дуги, и круглые, большие, бледно-голубые глаза безразлично глядели в потолок. Санитары раздели его и положили на операционный стол. Обнаженное мясо синими клочками свисало с плеч, со спины.
– Неплохо сделано, – сказал профессор после осмотра. – Но кости целы. Кто его так отделал, Луи?
Ассистент засучил рукава своей рубашки. В розовую кожу были вдавлены треугольные, коричневые шрамы.
– Похоже?
– То же самое, мальчик. Кастеты. Фирма?
– Полковник де ля Рокк, профессор.
– Вот как. Но Бержере вылечится. Как и вы.
– Да. Но вылечат ли эти побои господина Бержере?
Пава и древо
Анна Власьевна кружевничала шестьдесят пятый год. Плотно обхватив сухонькими морщинистыми пальцами коклюшку, она ловко перекидывала нитку от булавки к булавке, выплетала оборку для наволочки – самое пустое плетение. Двумя парами коклюшек водила по кутузу, по кружевной подушке Анна Власьевна. В молодые годы вертела она по триста пар коклюшек – самая знаменитая кружевница северного края. Давно уже не плетет Анна Власьевна сердечки и опахальца, оплет и воронью лапку, стежные денежки и решетки канфарные – все, чем славится вологодское кружево: сцепное, фонтанное, сколичное…
Двадцать лет, как ослепла Анна Власьевна, но, и слепая, ежедневно сидит она за кутузом – плетет для артели самый простой узор.
Род Анны Власьевны – кружевной род. Трехлетним ребенком играла она на повити «в коклюшки да булавки», а пятилетней посадили ее к настоящей подушке – «манер заучивать» – пусть попривыкнет вертеть коклюшками, да и рука пораньше тверже станет. А через год-два и дому помощь. К восемнадцати стала она первой мастерицей в селе, сама составляла узоры и «сколки» на «бергаменте», и Софья Павловна Глинская взяла ее к себе в усадьбу первой плетеей.
Тридцать две зимы просидела здесь Анна Власьевна. Зимами только и плели: «Летом день длинен, зато нитка коротка», думы не кружевные, изба ведь не кружевами держится – землей. А какая изба – в окно только ноги прохожих видно. Анна Власьевна плела только самое тонкое, самое хитрое кружево. «Иное плетешь тонко-тонко, в вершок шириной, пол-аршина в две недели сплетешь, да больше двух часов в день и плести нельзя – глаза ломит». Так Анна Власьевна и ослепла – «темная вода» залила ее глаза. Анна Власьевна вернулась в избу, перешла жить к старшей дочери. Мужа она давно схоронила, уж внучка – кружевница на выданьи и волосы у внучки мягкие-мягкие…
– Бабушка, ты спишь? Федя приехал.
– Не сплю я – замыслилась. Смеются, небось, бабы – Анна Власьевна четырьмя коклюшками плетет. А того не помнят, сколько я знала. У нас на деревне, да, почитай, во всем крае только на сколотое кружево и мастерицы. А я знаю численное, когда надо нитки считать и узор сам собой повторяется – у Софьи Павловны петербургские знаменщики узоры-то эти чертили. Численное – это уже самое старинное русское, давно уж нет численниц-то нигде, а у Софьи Павловны только я одна была. Четырнадцать медалей Софья Павловна за мое кружево-то получила.
Знаю я и кружево сканое, шитое и пряденое понимаю. А на коклюшках-то все разумела: манер белозерской, балахнинской, рязанской, скопинской, елецкой, мценской – все знаю. По узорам-то и памяти моей не хватит считать: и рязанские-то павлинки и протекай-речку и ветки-разводы травчатые и бровки-пышки – города и вертячий край и гипюр зубьями… Калязинский манер цветами тонкий, паучки орловские, обачино ярославские, копытце да блины тверские – белевский окрок, – все знала. Но против нашего вологодского манера – никуда. У нашего нитка нитку за ручку ведет. Видала я у Софьи Павловны и баланжен плетеный французский и гипур нитяный испанский. Не пришлись за нрав. Нет у них этой чистоты нашей – недаром вологодское кружево-то на «убрусы» невестам шло.
Ходка была я на работу-то, ходка. По полтиннику в день вырабатывала: зимами-то фунт керосину в коптилке сжигали. В полуден полоскаешь да чайку попьешь – очень мы чай любили да и сахару не жалели: когда вприкуску, а когда и вприглядку попьешь… И опять за коклюшки… А уж плетея была! Я на узком кружеве-то не сидела. Цельные платья выплетала я, тальмы, вуали, наколки, чепцы плела…
Старопрежнюю работу только и знали, что я да Угрюмова Пелагея, плетея наша, что в Петербург ездила. А только паву и древо мои и Пелагее не выплесть. Вятское это плетение, пава-то с древом…
Но о «паве и древе» внучка слышала много раз – без малого двадцать лет рассказывает об этом узоре Анна Власьевна: «Только бы разок паву и древо выплесть, да и на кладбище. Не успела я дочек научить, не успела. Может, где теперь и плетут. Принесли бы, показали». И дочери приносили каждый новый узор матери. Анна Власьевна ощупывала кружево, нюхала, гладила пальцами. – Нет, не то. Далеко до моих. – Где нам, маманя. Была ты первая коклюшница по Северу и теперь тебя так кличут. Анесподист Александрович, приемщик, недавно баил: «Твою бы матку, Настасья, в артель».
– То-то. Да и нитка толста. На такой нитке только к наволокам кружево идет…
– Бабушка, Федя-то доктор теперь. Распишемся мы и тебя возьмем. Работать не надо будет.
– Не из-за хлеба куска на артель верчу. Шестьдесят лет кружевничаю, разве отстанешь? Так с коклюшкой и помру. Сдавали сегодня?
– По первому сорту, бабушка.
– Мы кружевницы природные. Нам нельзя позориться. Ну девка, потревожила ты меня, – пойду досыпать.
– Чего много спишь, бабушка?
– Эх, внучка. Глаза ведь ко мне ворочаются. Во снах-то я ВИЖУ. Рожь, милушка, вижу – колос к колосу, желтую-желтую. Кружево вижу и Софью Павловну вчера видела – она меня коклюшкой в бок ткнула, когда губернаторше численное кружево я плела, да в счете ошибалась. А больше всего плету во сне пав и древо, что вы сплести не можете. Из моих-то пав, баили, сама английская царица мантилью сошила…
Анна Власьевна уже добралась до своей койки.