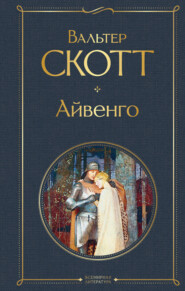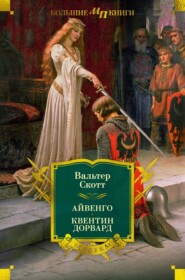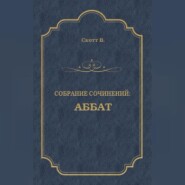По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черный Карлик. Легенда о Монтрозе (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не мог уехать из этого дома, не поблагодарив вас, достопочтеннейший сэр, за поучение, коим вы нас почтили сегодня.
– Я даже не заметил, сэр, что вы были в капелле! – сказал проповедник.
– Его светлости маркизу было угодно, – скромно сказал Дальгетти, – дать мне местечко в своей собственной галерее.
При этом известии пастор низехонько поклонился капитану, зная, что такая честь достается лишь немногим знатнейшим особам.
– Мне доводилось, сэр, – продолжал капитан, – в течение моей скитальческой жизни слышать многих проповедников всяких вероисповеданий, как-то: лютеран, евангелистов, реформатов, кальвинистов и прочая, но никогда еще не слыхал я поучения, подобного вашему.
– Не поучение, многоуважаемый сэр, а чтение, – сказал пастор, – наша церковь это называет чтением.
– Чтение или поучение, – сказал Дальгетти, – но это было, как говорят немцы, ganz fortre flich[35 - Превосходно (искаж. нем.).], и я не мог уехать, не засвидетельствовав перед вами, как глубоко растрогало меня ваше душеспасительное чтение и как я в то же время раскаиваюсь в том, что за вчерашней трапезой с недостаточным почтением обращался к такой особе, как вы.
– Увы, многоуважаемый сэр, – сказал пастор, – в сем мире мы встречаемся как бы в Долине Помрачения Смерти, сами не знаем, с кем нас сталкивает судьба! Что же удивительного, если иногда толкаем тех, кого, несомненно, стали бы уважать, кабы знали, с кем имеем дело. А ведь, по правде сказать, и я, сэр, расположен был принять вас скорее за кощунствующего шутника, нежели за благочестивую особу, чтящую Господа нашего даже в лице нижайшего из Его слуг.
– Таково мое всегдашнее обыкновение, многоуважаемый сэр, – отвечал Дальгетти, – ибо на службе у бессмертного короля Густава… Однако я вас отвлекаю от благочестивых размышлений? – На этот раз затруднительные обстоятельства пересилили в нем даже охоту рассказывать про шведского короля.
– Нисколько, нисколько, многоуважаемый сэр, – сказал пастор. – Скажите пожалуйста, какие были порядки при особе этого великого монарха, память о котором столь драгоценна для каждого протестантского сердца?
– Сэр, утром и вечером барабан созывал на молитву так же аккуратно, как на ученье; и если какой солдат проходил мимо духовного лица, не поклонившись ему, его на целый час сажали за это на деревянную кобылу. Сэр, позвольте пожелать вам доброго вечера… Я принужден покинуть замок. Мак-Калемор уже выдал мне паспорт.
– Еще минуту, сэр! – задержал его проповедник. – Не могу ли я чем-нибудь засвидетельствовать глубочайшее мое уважение к ученику великого Густава, и притом столь удивительному знатоку ораторского искусства?
– О, ничем, сэр, – сказал капитан, – вот разве попрошу вас указать мне ближайший выход к воротам, да еще, – прибавил он с неподражаемым нахальством, – будьте так добры, прикажите слуге привести мне туда мою лошадь, темно-серого мерина. Надо лишь кликнуть: «Густав!» – он тотчас насторожит уши… Сам-то я, по правде сказать, не знаю, где тут расположены конюшни, а мой проводник, – тут он значительно взглянул на Ранальда, – не говорит по-английски.
– Очень рад услужить вам, – сказал пастор. – Вот, сюда пожалуйте, через этот крытый ход!
«Ну и слава богу, что ты так тщеславен, – подумал про себя капитан. – А я уж боялся, как бы не пришлось пускаться в путь без Густава».
И точно, капеллан поспешил так усердно выполнить поручение «удивительного знатока ораторского искусства», что, пока Дальгетти вел переговоры с часовыми у подъемного моста, предъявляя паспорт и передавая пароль, слуга привел ему его коня, совсем оседланного.
Во всяком другом месте внезапное появление капитана на свободе, тогда как его только что всенародно посадили в тюрьму, могло возбудить подозрения и толки; но слуги и домашние маркиза так привыкли к его таинственной политике, что им и в голову не пришло ничего особенного; подумали только, что, должно быть, капитана затем и выпустили на волю, чтобы дать ему какое-нибудь секретное поручение. В этом предположении у него только спросили пароль и отпустили на все четыре стороны.
Дальгетти шагом проехал через городок Инверэри, а разбойник шел рядом с лошадью, в виде пешего служителя. Проходя мимо виселицы, старик взглянул на висевшие тела и заломил руки. Движение было мимолетное, так же как и взгляд, но оба выражали глубочайшее страдание. Ранальд тотчас овладел собой и только на ходу шепнул несколько слов одной из женщин, которые, сидя у подножия виселицы, подобно Риспе, дочери Айи, стерегли мертвых и оплакивали этих жертв феодальной неправды и жестокости. Услыхав голос Ранальда, женщина вздрогнула, но, мгновенно спохватившись, слегка кивнула ему в ответ.
Дальгетти продолжал свой путь вон из города, раздумывая: нанять или просто взять лодку и переправиться через озеро или же шмыгнуть в лес и там скрыться от преследования.
В первом случае он рисковал тем, что за ним каждую минуту могла погнаться одна из оснащенных галер маркиза, стоявших наготове у пристани; их длинные реи, обращенные к подветренной стороне, отнимали у него всякую надежду уйти от них в простой рыбачьей лодке. Если же решиться на второе, он был далеко не уверен, что в таком диком и незнакомом краю сумеет спрятаться и найти себе пропитание. Город остался позади, а он все еще не знал, куда поворотить коня, и начинал понимать, что, уйдя из темницы инверэрского замка, он хоть и совершил отчаянный подвиг, но самое трудное оставалось впереди. Теперь, если бы его поймали, расправа была бы короткая, потому что, нанеся личное оскорбление такому властному и мстительному вельможе, ему только и можно было ожидать немедленной казни. Пока он предавался этим печальным размышлениям и озирался кругом с нерешительным видом, Ранальд Мак-Иф внезапно спросил, куда он намерен теперь направиться.
– Вот в том-то и штука, почтенный мой товарищ, – отвечал Дальгетти, – что не знаю, как тебе ответить. Право, Ранальд, мне сдается, что лучше бы нам с тобой побыть на черном хлебе и воде до приезда сэра Дункана из Арденвора; а уж он, ради спасения собственной чести, должен бы как-никак вызволить меня оттуда.
– Саксонец, – отвечал Мак-Иф, – не жалей, что променял смрадную темницу на приволье под чистым небом. А пуще всего не тужи о том, что оказал услугу одному из Сыновей Тумана. Положись на меня: головой ручаюсь, что проведу тебя в сохранности.
– А можешь ли ты благополучно проводить меня по горам обратно к войску Монтроза? – спросил Дальгетти.
– Могу, – сказал Мак-Иф. – Нет человека, который так подробно знал бы все проходы, пещеры, лощины и трущобы, как знаем их мы, Сыновья Тумана. Пока другие только и знают ползать по берегам рек и озер, нам известны крутые ущелья непроходимых гор и глубокие пещеры, откуда берут начало горные потоки. Аргайл и с гончими собаками не выследит нас в тех твердынях, куда я проведу тебя.
– Коли так, друг Ранальд, пусть будет по-твоему, – сказал Дальгетти, – сам-то я, наверное, пропал бы в этих местах.
Разбойник тотчас свернул с дороги в лес, на многие мили тянущийся вокруг замка; он шел так быстро, что Густав едва поспевал за ним крупной рысью, и столько раз повертывал из стороны в сторону или устремлялся для сокращения пути вбок, что капитан Дальгетти вскоре совсем сбился с толку и не мог сообразить, где восток, где запад.
Наконец тропинка, становившаяся все более затруднительной, уперлась в густую трущобу. Вблизи слышен был рев горного потока, почва была местами топкая, местами обрывистая, и дальше ехать было решительно невозможно.
– Черт побери! – воскликнул Дальгетти. – Тут никак не пролезешь! Я боюсь, не пришлось бы расстаться с Густавом.
– О коне не беспокойся, – сказал разбойник, – скоро получишь его обратно.
Сказав это, он тихо засвистал; из чащи малинника и ежевики появился мальчик, полунагой, лишь наполовину прикрытый тартаном, без шапки, но с массой спутанных волос, повязанных вокруг головы кожаным ремнем; другой защиты от солнца и непогоды на нем не было. Он был страшно худ, и его серые глаза казались вдесятеро больше обычных человеческих глаз, хотя, как зверь, он выполз из-под куста.
– Отдай коня парню, – сказал Ранальд Мак-Иф. – Твоя жизнь от этого зависит.
– Ох, ох! – воскликнул ветеран в отчаянии. – Неужто надо оставлять Густава в таких ненадежных руках?
– С ума ты сходишь, теряя понапрасну столько времени! – сказал его проводник. – Разве мы на дружеской земле, что ты прощаешься с конем, словно с братом родным? Говорю тебе, что еще увидишь свою лошадь; а если бы и не увидел, разве жизнь не дороже самого лучшего жеребца, когда-либо рожденного от кобылы?
– Что правда, то правда, почтеннейший, – вздыхал Дальгетти, – а все-таки если бы ты знал, что за ценный конь этот Густав… Какие мы с ним походы делали… сколько вместе горя мыкали!.. Ты посмотри, он поворачивает голову, чтобы еще раз взглянуть на меня… Эй, паренек без штанов, будь с ним поласковее, голубчик, я тебя награжу за это!..
И капитан, слегка пофыркивая носом, чтобы проглотить свое горе, отвернулся от зрелища, надрывавшего ему сердце, и последовал за проводником.
Однако следовать за проводником оказалось совсем не легкой задачей, и вскоре сделалось так трудно, что капитан Дальгетти решительно не был в состоянии угнаться за Ранальдом. Началось с того, что, расставшись с конем, капитан должен был, едва придерживаясь за висячие ветки и торчавшие из земли коренья, спрыгнуть с высоты восьми футов в каменистое русло потока, вверх по течению которого Сын Тумана отправился дальше. Они перелезали через громадные камни, продирались сквозь чащу колючих кустов, карабкались с превеликим трудом на отвесные скалы с тем, чтобы, достигнув вершины, тотчас с не меньшим трудом спускаться с противоположной крутизны; все эти препятствия быстроногий и полунагой горец преодолевал с такой легкостью и проворством, что капитан только дивился и завидовал; сам же он, обремененный стальным шлемом, панцирем и другими доспехами, не говоря уже о тяжеловесных высоких сапогах, наконец до такой степени умаялся и от усталости, и от беспрестанных препятствий на пути, что сел на камень перевести дух и принялся объяснять Ранальду Мак-Ифу разницу между путешествием expeditus[36 - Налегке (лат.).] и impeditus[37 - С поклажей (лат.).] и как эти понятия истолковывались в маршальской коллегии в Абердине.
Вместо ответа горец положил руку ему на плечо и указал назад, в ту сторону, откуда дул ветер. Дальгетти оглянулся, но ничего не увидел, потому что сумерки быстро сгущались, а находились они на дне глубокого оврага. Но зато до его ушей донесся издали явственный звон большого колокола.
– Это они тревогу забили, должно быть… так называемый набат, – молвил Дальгетти.
– Он возвещает тебе верную смерть, – сказал Ранальд, – если не хочешь пройти еще немного дальше. Каждый удар этого колокола уже стоил жизни хорошему человеку.
– Правда, Ранальд, ты мой надежный друг, – сказал Дальгетти. – Не спорю, что и со мной скоро может случиться то же самое, потому что я до того замотался по той причине, что я, как уже говорил тебе, impeditus, а будь я expeditus, меня бы пешее хождение не затруднило ни капельки; теперь же, я думаю, всего проще мне залезть куда-нибудь в кусты, полежать спокойно и ждать, какую судьбу Богу угодно послать мне. Убедительно прошу тебя, друг Ранальд, позаботься о себе самом, а меня оставь на произвол судьбы, как сказал Северный Лев, бессмертный Густав Адольф (о котором ты, наверное, слыхал, хотя бы ни о ком другом и не слыхивал, Ранальд), – и сказал он это Францу-Альберту, герцогу Саксен-Лауенбургскому, будучи смертельно ранен в сражении при Лютцене. И даже не очень отчаивайся в моей участи, друг мой, потому что в Германии мне не раз доводилось бывать в таких же переделках, особенно помню я случай после роковой битвы под Нордлингеном, когда я даже на другую службу перешел…
– Если бы ты поберег свое дыхание для спасения сына твоего отца, вместо того чтобы тратить время и силы на пустые россказни, – сказал Ранальд, приходя в нетерпение от болтливости капитана, – или если бы твои ноги так же проворно работали, как язык, еще была бы тебе надежда положить сегодня твою усталую голову не на кровавую подушку.
– В твоих словах есть нечто поистине военное, – сказал капитан, – хотя слишком резко и непочтительно по отношению к офицеру в старшем чине. Но на походе я всегда прощаю такие провинности, потому что у всех народов при этих случаях допускаются большие вольности. Ну а теперь, друг Ранальд, веди меня дальше, так как я успел маленько отдышаться. Иначе говоря, I prae, sequar[38 - Иди вперед, я – за тобой (лат.).], как мы, бывало, выражались в маршальской коллегии.
Догадываясь о его намерениях больше по движениям, чем по речам, Сын Тумана снова пустился в путь, пробираясь с безошибочной точностью, уподоблявшейся инстинкту, через самые неудобные места, какие только можно себе представить. Капитан поспевал за ним, как мог, таща на себе и тяжелые сапоги с наколенниками, и панцирь с железными рукавицами, не говоря уже о толстой кожаной куртке, скрывавшейся под всеми этими доспехами; он во всю дорогу разглагольствовал о своих прежних подвигах, хотя Ранальд не обращал ни малейшего внимания на его слова. Таким образом прошли они довольно большое расстояние, как вдруг в стороне послышался мощный лай собаки, вероятно почуявшей по ветру свою добычу.
– Черный пес, – молвил Ранальд, – не к добру тебя услышал Сын Тумана! Чтобы тебе пропасть, и с сукой, которая тебя породила… Таки напала на наш след?.. Только теперь уж поздно, черная тварь, олень добрался до своего стада.
Сказав это, он опять тихо свистнул, и ему так же тихо ответили с верхнего конца скалистого прохода, по которому они уже несколько времени подымались. Ускорив шаги, они достигли вершины, и при свете ярко светившей луны Дальгетти увидел толпу из десяти иди двенадцати хайлендеров и стольких же женщин и детей, которые встретили Ранальда Мак-Ифа изъявлениями такой восторженной радости, что спутник его тотчас догадался, что это должны быть Сыновья Тумана. Место, где они ютились, вполне подходило к их прозвищу и образу жизни. То был нависший над бездной крутой утес, вокруг которого вилась узкая, прерывистая тропинка, и над нею во многих пунктах командовала избранная ими позиция.
Ранальд поспешно и горячо что-то рассказывал детям своего племени, после чего все мужчины стали поодиночке подходить к Дальгетти и пожимать ему руку, а женщины, с громкими возгласами благодарности, теснились вокруг него и целовали край его одежды.
– Они клянутся тебе в верности, – сказал Ранальд Мак-Иф, – за то добро, которое ты сделал сегодня нашему роду.
– Ну и довольно, Ранальд, – сказал Дальгетти, – скажи им, что я не люблю этого пожимания рук… Это только путает понятия и ранги в воинском сословии… А что до целования рукавиц, пороховниц и тому подобного, помню я, что однажды сказал бессмертный Густав, когда проезжал по улицам Нюрнберга и народ на него молился (чего он, конечно, более был достоин, нежели простой, хотя и благородный кавалер, как я). Тогда он обратился к ним с упреком, говоря: «Вот вы мне поклоняетесь, как Богу, а может быть, скоро на меня падет небесное мщение и докажет вам, что я такой же смертный, как и вы!» Так вот, значит, где ты думаешь укрыться от преследований, Ранальд?.. Voto а Dios[39 - Клянусь Богом (исп.).], как говорят испанцы, местечко отличное… И даже такое местечко, что для малого отряда я, пожалуй, лучше не видывал. Ни одному человеку нельзя подойти по этой тропинке, не наткнувшись на дуло пушки или ружья… А впрочем, Ранальд, надежный друг мой, пушек-то у вас, наверное, не водится… да и мушкетов я что-то не вижу у твоих молодцов. Какую же артиллерию намерен ты пустить в ход, чтобы защитить позицию, покуда не дойдет дело до рукопашной? Я не могу взять в толк, что ты замышляешь, Ранальд!
– Будем обороняться с той отвагой и тем оружием, которое досталось нам от отцов наших, – отвечал Мак-Иф, указывая капитану на своих людей, вооруженных луками и стрелами.
– Луки и стрелы! – воскликнул Дальгетти. – Ха-ха-ха! Разве мы возвращаемся к временам Робин Гуда?[106 - Разве мы возвращаемся к временам Робин Гуда? – Робин Гуд – герой народных английских баллад, крестьянин-сакс, боровшийся против произвола феодалов и власти иноземных поработителей – норманнов; лук и стрелы – обычное оружие «вольных стрелков» Робин Гуда (см. роман «Айвенго»).] Луки и стрелы! Вот уже сто лет, как ничего подобного не видано в цивилизованных войсках. Луки и стрелы! Отчего же не ткацкий навой, как во времена Голиафа?[107 - Отчего же не ткацкий навой, как во времена Голиафа? – В Библии о филистимлянском великане Голиафе говорится: «И древко копья его, как навой у ткачей» (навой – часть ткацкого станка, вал, на который навивается основа).] Вот до чего дожил Дугалд Дальгетти из Драмсуокита, что собственными глазами увидал людей, которые сражаются с помощью лука и стрел! Бессмертный Густав ни за что бы не поверил этому… ни Валленштейн, ни Батлер… ни старик Тилли… Ну, Ранальд, что делать, коли у кошки только и есть что когти… Если у нас ничего нет, кроме луков и стрел, попробуем как-нибудь управиться и этими средствами. Но так как я не знаю, далеко ли они стреляют и что вообще можно сделать с такой допотопной артиллерией, распорядись уж сам, как лучше расставить твоих людей. Я и рад бы принять начальство, если бы вы воевали настоящим христианским оружием, да не могу, потому что у вас способы какие-то нумидийские. Впрочем, и я непременно приму участие в предстоящей схватке, к сожалению, только с пистолетами, по той причине, что мое ружье осталось у седла вместе с Густавом…