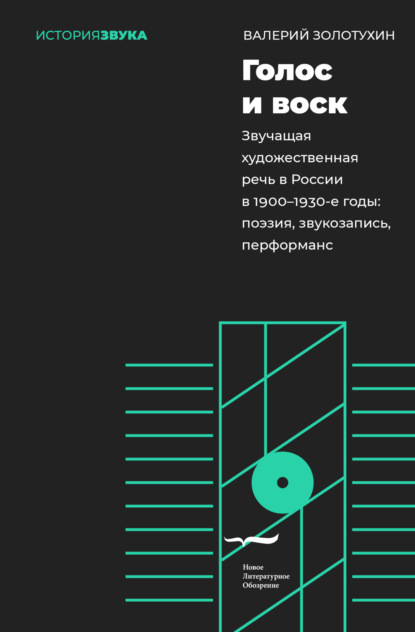По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голос и воск. Звучащая художественная речь в России в 1900–1930-е годы. Поэзия, звукозапись, перформанс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сегодня, в медиаситуации, кардинально отличающейся от ситуации сто лет назад, процессы и проблемы фиксации перформанса с помощью различных технических средств вызывают большой интерес исследователей и практиков. Нередко в обсуждении этой темы повторяются доводы, высказанные в начале 1990?х феминистской исследовательницей перформанса Пегги Фелан, о том, что исчезновение является конститутивным свойством перформанса[10 - См.: Phelan P. Unmarked: The Politics of Performance. London: Taylor & Francis, 1993. P. 146–147; Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М.: Канон-Плюс, 2015. С. 137–138; Исраилова М. Перформанс и его документация // Театр. 2017. № 29. https://oteatre.info/performans-i-ego-dokumentatsiya/.]. Согласно Фелан, перформанс невоспроизводим, и это ставит преграду на пути любых технических способов его фиксации. Роль технических средств, как, например, видео, сведена ею к тому, чтобы сделать более наглядным «здесь и сейчас» перформанса, исчезающее вместе с ним.
В ходе полемики, вызванной текстом Пегги Фелан, ее оппонент Филипп Аусландер сформулировал важное понятие перформативности документации[11 - Auslander P. The Performativity of Performance Documentation // PAJ: A Journal of Performance and Art. 2006. Vol. 28. № 3 (84). P. 1–10.]. Отчасти оно уже содержалось в рассуждениях Фелан о письме, обособленном от остальных медиа[12 - Обособленном в том числе и от видеоархива перформанса, «дополняющего и поддерживающего», с точки зрения Фелан, единственно возможное настоящее время перформанса.]: «Вызов, – писала она, – который онтологические свойства перформанса бросают письму, заключается в том, чтобы вновь сделать видимыми перформативные возможности самого письма»[13 - Phelan P. Unmarked. P. 148.]. В качестве иллюстрации к этому утверждению она привела проект французской художницы Софи Калль Last Seen…[14 - См.: Sophie Calle. Artist-in-Residence. https://www.gardnermuseum.org/experience/contemporary-art/artists/calle-sophie.], созданный в бостонском Музее Изабеллы Стюарт Гарднер. Поводом для этого проекта стало похищение в 1990 году нескольких полотен из собрания музея, вслед за чем Калль обратилась к его сотрудникам с просьбой описать своими словами украденные полотна. Тексты с воспоминаниями – содержащими неточности, но отражающими субъективное восприятие отсутствующих произведений – были помещены вместо оригинальных работ рядом с фотографиями с пустыми рамами. Дескриптивная функция высказывания, по мысли Фелан, здесь отошла на второй план, а на первый выдвинулась перформативная: в отсутствие произведения высказывание перестало быть описанием, оно превратилось, пользуясь термином философа языка Джона Остина, в перформатив.
Я останавливаюсь на этом примере, чтобы показать, как современный контекст помогает под новым углом рассматривать явления начала ХX века, которым в основном посвящена эта книга. Работа Софи Калль отчетливо рифмуется с одним из эпизодов из истории художественной звукозаписи, относящимся к началу 1920?х годов. В 1921 году, вскоре после смерти Александра Блока, Владимир Пяст в одной из своих статей[15 - Пяст В. А. Два слова о чтении Блоком стихов // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 1. С. 397–401.] предложил необычную программу фиксации памяти о голосе поэта. Вполне в духе тезисов Пегги Фелан Пяст утверждал, что звукозапись не способна зафиксировать уникальное в чтении Блоком своих стихов. Однако, по наблюдениям Пяста, у слушателей оно вызывало способность, читая вслух стихи Блока, точно воспроизводить его интонации и манеру. Именно поэтому Пяст предложил записывать на фонограф чтение слушателей Блока, тех, кто испытал на себе глубокое воздействие авторского чтения поэта и сохранил в своем собственном чтении блоковских стихов следы «гипнотического», как считал Владимир Пяст, влияния (подробнее об этом в главе 6). Предложение Пяста интересно тем, что попадает в зазор между двумя крайностями, характерными для того времени, – полным отрицанием звукозаписи как медиума поэзии и ее принятием в качестве единственного адекватного средства, способного полностью заменить письмо. Можно сказать, что технологию Пяст предлагал использовать творчески, в союзничестве с памятью, аффектом и т. д. Это была форма рефлексии об утрате того, что не поддается, по мысли Пяста, восстановлению и сохранению техническими средствами. Продолжая мысль Фелан о перформативности письма, выявленной благодаря его встрече с перформансом, звукозаписи слушателей Блока также можно рассматривать как документы, свидетельствующие об уникальности утраченного голоса.
В книге я подробно останавливаюсь на различных примерах, свидетельствующих, что фиксация перформанса, как правило, не рассматривалась как нечто обособленное от него самого. В частности, обращение к истории литературы и перформативных практик начала ХX века показывает, что рефлексия по поводу звукозаписи была неразрывно связана с рефлексией по поводу «живого» исполнения. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы рассматривать появление и развитие художественной звукозаписи в тесной связи с перформативностью поэзии. Я постараюсь показать, что история звукозаписи предлагает новый угол зрения для рассмотрения перформативных практик. И не только их.
Можно задаться вопросом, почему именно в Петрограде, несмотря на сравнительно слабую материальную базу в Институте живого слова и позже в Государственном институте истории искусств, в начале 1920?х годов возник фактически первый в мире фонограммархив современной литературы[16 - Записи голосов писателей часто входили в более крупные собрания звукозаписей. Примером этого служит собрание Эдисона – фонотеки с голосами политических, литературных и прочих знаменитостей. Одни из самых ранних звукозаписей французских поэтов, в том числе известные записи с чтением Г. Аполлинера, были сделаны в 1913 году языковедом и основателем Les Archives de la Parole Фердинандом Брюно. Институцией, близкой к КИХРу и фонограммархиву, в 1926 году созданному С. Бернштейном в ГИИИ, был открытый в 1931 году центр Woodberry Poetry Room в Гарварде. В 1933 году профессором Гарварда Фредериком К. Паккардом – младшим был основан звукозаписывающий лейбл Harvard Vocarium, работавший на базе Woodberry Poetry Room.]. Ответ на этот вопрос не сводится к перечислению исследовательских задач, в связи с которыми создавались звукозаписи. Это связано с культурными особенностями, резко выделявшими ситуацию в России. В более широкой перспективе это было связано с проблемой памяти.
Западные антропологи и этнографы начали открывать возможности использования фонографа в научных целях в конце XIX века. Первыми же, кого фольклористы начали записывать на фонограф в США, стали представители коренного населения Америки. В связи с этим исследователь культурной истории звукозаписи Джонатан Стерн останавливается на конструкте уходящей культуры, который сыграл ключевую роль в этом выборе. «Ранние звукозаписи антропологов и фольклористов, вероятно, служат самым выразительным примером пересечения двух мотивов, бытовавших в связи с фонографией – голосов мертвых и посланий, отправленных в будущее. С поправкой, что в этом случае речь шла о голосах умирающей культуры, которую антропологи надеялись спасти»[17 - Sterne J. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham: Duke University Press Books, 2003. P. 314.]. В качестве примера Стерн приводит статьи Джесси Уолтера Фьюкса, пионера использования фонографа в этнологии, в 1890?е годы записывавшего музыку и речь представителей индейского племени пассамакуоди и народности зуни[18 - Ibid. P. 315–316.]. Фьюкс доказывал важность применения фонографа в исследованиях антропологов, а постоянными мотивом его текстов было сожаление по поводу утраты культуры коренных народов Америки и надежда на сохранение с помощью звукозаписи их языков.
Переоценка значимости устного слова в разных сферах, начиная с художественной и заканчивая политической (см. главы 1 и 2), безусловно, была одной из ключевых причин появления первого в России собрания голосов писателей. Но не менее важную роль в этом сыграло то, что, в отличие от США, где «уходящими» (а точнее, многие десятилетия искореняемыми) были культуры и языки индейских резерваций, в послереволюционной России уходящей культурой стала культура Серебряного века. Мотив голосов мертвых, один из центральных в рефлексиях о фонографе рубежа XIX–XX веков, был важен и в размышлениях Сергея Бернштейна о своем собрании звукозаписей. Причины этого были не только общекультурные, обусловленные дискурсом «голосов мертвых», характерным для литературы о звукозаписи рубежа веков, с которой был знаком Бернштейн, но и непосредственно связанные с обстоятельствами лет Гражданской войны. В числе первых поэтов, которых Бернштейн записал в течение 1920 года, были Николай Гумилев, Александр Блок, Андрей Белый, Анна Ахматова, Георгий Иванов, Осип Мандельштам, Владимир Пяст и др. К концу следующего, 1921 года Блока и Гумилева не было в живых, Андрей Белый находился в эмиграции в Берлине, Мандельштам скитался по югу России.
Еще одна, помимо научной и мемориальной, перспектива на раннюю художественную фонографию, к которой я обращаюсь в этой книге, – это современное отношение к звуковому наследию начала ХX века. Последние несколько десятилетий стали временем масштабных проектов по оцифровке исторического звука, запущенных в библиотеках и музеях по всему миру. Благодаря им количество аудиодокументов увеличивается невиданными темпами. Но можно ли сказать, что эти звукозаписи, попав в распоряжение широкой аудитории, стали действительно ей доступны? Для меня ответ на этот вопрос неочевиден, поскольку то, что мы на них слышим, определяется не только содержанием самих записей. Важную роль в этом играют наши техники слушания. Эти техники опираются на наши знания, на ожидания того, как должен звучать тот или иной исторический звуковой артефакт. На способы, которыми мы привыкли взаимодействовать с подобными источниками.
В отдельных случаях дневниковые свидетельства и воспоминания позволяют нам реконструировать слушательские техники прошлого и понять их особенности. Благодаря этому становится очевидным, что столетие назад те же самые записи слушали иначе. Так, например, звукозаписи голосов поэтов в восприятии слушателей 1920?х годов выполняли функцию мнемонической подсказки, позволявшей воссоздать звучание реального голоса (подробнее об этом в главе 6). Но до слушателей 1970?х эти же фоновалики часто доходили с серьезными дефектами, и, чтобы обойти их, звукоархивисты предлагали менять сценарии того, как мы с ними взаимодействуем. В качестве примера можно привести рекомендации звукоархивиста, публикатора и исследователя Льва Шилова (1932–2004) слушателям изношенных (из?за многократных прослушиваний и ненадлежащих условий хранения) фоноваликов поэтов начала ХX века, в частности Блока. Шилов предлагал проигрывать их не один или несколько раз, а десятки, в результате чего слух постепенно должен был перестать воспринимать дефекты валиков.
Этот частный пример отсылает к более общему явлению – новым техникам слушания архивных звукозаписей, в создании которых в 1960–1970?е годы участвовал Лев Шилов. Они отличались от утвердившихся до того техник слушания. Утвердившихся, но не неизменных: историчны не только средства звукозаписи (фонограф, граммофон, пленочный магнитофон и т. д.), но и их слушание. Дефекты звука, не игравшие существенной роли в восприятии в 1920?е годы, в 1970?е служили залогом подлинности звукозаписи (во время реставрации записей Шилов не пытался их убирать полностью, заботясь о достоверности записи). И дефекты же играют ключевую роль в экономике внимания слушателя как во времена Шилова, так и сегодня. Они заставляют наше внимание сосредотачиваться на одних аспектах звука и выпускать из внимания другие – особенность, на которую и опирался способ слушания, предложенный Шиловым.
Звукозаписи, разумеется, лишь в очень ограниченной степени способны дать представление о тех или иных перформативных практиках. Однако сами эти документы являются результатом исследовательских и, шире, зрительских и слушательских техник[19 - О понятии слушательских техник см. главу 2 в: Sterne J. The Audible Past.], опирающихся на конкретные представления, подходы, установки, технические условия и т. д. Возвращаясь к фонографным записям, технические ограничения (такие, например, как маленький хронометраж каждого фоновалика – около 3 минут) служили вызовом, ответом на который становились конкретные и заранее сформулированные принципы записи. С этой точки зрения аудиодокумент может рассматриваться как свидетельство взаимоотношений с тем материалом, который он фиксирует. Подход Сергея Бернштейна служит ярким свидетельством того, что запись является не только способом сохранения перформативной практики. Она инструмент рефлексии. В таком же ключе, как способ интерпретации исходного материала, может быть рассмотрена и реставрационная работа. Звукозапись как инструмент рефлексии, способный особыми средствами выделять значимость тех или иных аспектов перформанса, – так можно было бы кратко сформулировать подход к анализу архивных звукозаписей, с которым встретится читатель этой книги.
В этой связи особую важность приобретает критика источников, в случае аудиодокументов затрагивающая не только создание той или иной записи, но и ее копирование (включающее перенос на различные носители), реставрацию и т. д. С моей точки зрения, это знание способно сделать наш слушательский опыт существенно богаче, направляя внимание на те или иные аспекты. Методология работы с ранними звуковыми источниками, опирающаяся на критику источников, описана в работах звукоархивиста и исследователя Джорджа Брок-Наннестада, утверждающего, что запись является не линейным, но сложным процессом, который помимо действий перформера отражает установки и знания тех, кто ее осуществляет, – исследователей, архивистов, звукорежиссеров и т. д. – их выбор, ценности и т. д. «Результатом звукозаписи, – пишет он, – является не просто сохраненный звук, но также фоновая информация, которую он в себе несет»[20 - Brock-Nannestad G. The Use of Somebody Else’s Sound Recordings. Source-Critical Complexes When Working with Historical Sound Recordings // Audioarchive: Tondokumente digitalisieren, erschlie?en und auswerten. M?nster, M?nchen, Berlin: Waxmann, 2013. P. 27.]. Эта как будто бы очевидная идея часто ускользает от внимания тех, кто имеет дело с медиатизацией не только исторического, но и современного перформанса. Более того, в ситуации, когда мы вынуждены мириться с значительной степенью самостоятельности документа по отношению к фиксируемому событию, эта установка помогает сформулировать, что же мы можем извлечь из аудио- и видеодокументов перформативных практик? В книге я стараюсь дать ответ на этот вопрос, опираясь на записи, сделанные в первой половине ХX века, но нет никаких препятствий для того, чтобы с необходимыми оговорками и поправками распространить этот подход и на более поздние материалы.
Глава 1
ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС В НАЧАЛЕ ХX ВЕКА И ЭМАНСИПАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ
Первая треть ХX века в России – время коренных изменений в отношении к звучащему стиху. Это касалось в первую очередь внимания к звуковой организации слова и стиха, характерного для модернистской поэзии в целом. «Дело, конечно, не в чтении вслух, – писал Борис Эйхенбаум, – а в самом слуховом принципе – в признании фонетических и, в данном случае, мелодических элементов стиха не механическим придатком к элементам смысловым в узком смысле слова, а началом действенным и иногда даже организующим художественное произведение»[21 - Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха // О поэзии. С. 335.]. Чтение стихов вслух, однако, также переживало значительные изменения в эти годы. Происходила стремительная индивидуализация авторского чтения, менявшего свою функцию в литературном быту. Отныне знакомство с тем, как поэт читает свои стихи, стало одним из важных кодов для интерпретации его поэзии. Но почему поэты вообще начали по-новому читать свои стихи? Было ли это связано с эволюцией поэтических школ или особенностями самих стихов? Знает ли поэт лучше всех остальных, как читать собственные стихи? В послереволюционные годы эти вопросы стали предметом интенсивной рефлексии современников, в особенности поэтов, педагогов и исследователей, работавших в петроградском Институте живого слова. В первой части этой главы, опираясь в основном на свидетельства «живословцев», я попытаюсь реконструировать и критически рассмотреть модель развития авторской декламации в России в первой четверти ХX века, которая была ими выдвинута. Во второй части главы я остановлюсь на механизмах влияния авторской декламации на исполнительскую традицию, прежде всего на чтецкое искусство, в 1920–1930?е годы переживавшее в России свой расцвет.
«Так, как поэты, и не так»
В последующих главах книги я часто буду возвращаться к установке на эмансипацию звучащей художественной речи, которая служила общим фреймом для исследовательской и художественной сфер и открывала возможности для их взаимообмена и влияний друг на друга. Эта установка заняла центральное место в модели развития авторского чтения, выдвинутой сотрудниками ИЖС. На рубеже 1910–1920?х годов размышления о взаимоотношении авторского чтения с исполнительскими манерами (то есть с манерами чтения эстрадных чтецов, декламаторов, актеров и т. д.) станут почти обязательной составляющей работ «живословцев» и их коллег, работающих в области звучащей литературы. Развитие авторского чтения в начале ХX века, с их точки зрения, происходило за счет эмансипации от современного театра. Сравнение авторской декламации с тем, как читали стихи исполнители, превратится в эти годы в один из основных аналитических инструментов, позволяющих не только формулировать принципиальные отличия между этими двумя подходами и обсуждать природу их особенностей, но и обосновывать новые. Примером этого служит система Владимира Пяста, о которой также пойдет речь в этой главе.
Установка на эмансипацию звучащей литературы от театра будет иметь как эвристический, так и художественный смысл. В начале 1920?х годов она приведет к значительным изменениям в чтецком искусстве и найдет отражение в работе двух крупнейших реформаторов этого жанра – Александра Закушняка и Владимира Яхонтова.
В конце XIX века авторская декламация современных поэтов развивалась параллельно реформам сценической речи, и до середины 1900?х эти процессы едва ли заметно влияли друг на друга. Более того, современниками они воспринимались как разнонаправленные по отношению друг к другу. Это отражено в работах Всеволода Всеволодского-Гернгросса, председателя совета Института живого слова, подчеркивавшего, что развитие театра до 1905 года не только не совпадало, но как будто бы прямо противостояло тенденциям в авторском чтении поэзии:
Моментом торжества натурализма на русской сцене можно считать приблизительно 1905 год, т. е. время, когда в других родах и видах искусства уже успел произойти новый сдвиг, а именно и в частности расцвела пышным цветом наша символическая, преимущественно лирическая, поэзия. <…> …у поэтов было что сказать, а сказать им хотелось, что их новая поэзия покоится вовсе не на ложно-эмоциональной основе, а на основе ритмико-мелодической. Современный им театральный реализм убивал в стихе все, кроме психологического элемента; декламация символистов заняла позицию единственно приемлемую для характера новой поэзии, невольно при том полемическую. На выступлениях своих в кругу друзей поэты невольно вырабатывали своеобразные приемы декламации, и их исполнение мало-помалу принимало характер явления художественного[22 - Всеволодский–Гернгросс В. Искусство декламации. Л.: Изд-во книжного сектора ЛГОНО, 1925. С. 27–29.].
Театральная реформа Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко непосредственно затрагивала область сценической речи и вела к усилению роли говорного (если пользоваться терминологией того же Всеволодского-Гернгросса[23 - Там же. С. 71.]) декламационного метода в созданном ими Московском Художественном театре. Этот метод сценической речи сознательно противопоставлялся декламации актеров Малого театра, пользовавшихся «распевно-ораторским» методом (типология Всеволодского-Гернгросса). Кроме того, существовал разрыв между сценической речью в петербургском и московском императорских театрах: в последней трети XIX века Малый театр все чаще обращался к драматургии романтизма и шекспировским пьесам, требовавшим особых «романтических» приемов игры. Этот репертуар был чужд петербургскому Александринскому театру, больше ориентированному на современную комедию и драму.
Но все эти различия в конце XIX века не влияли сколько-нибудь принципиально на некоторые особенности обращения актеров со стихом. Если чтение поэтов отличалось повышенным вниманием к собственно стиховой специфике текста, то для актерского чтения были, наоборот, характерны частые нарушения паузального членения стиха. Это ярко проявлялось в тенденции избегать пауз в конце стиха или на месте цезуры в случаях несовпадения стиховой границы с синтактическим членением, то есть стиховых переносов, enjambement[24 - Подтверждением того, что эта особенность актерского чтения была широко распространена в конце XIX века, служат сохранившиеся ранние звукозаписи исполнения актерами (Александром Южиным, Александром Ленским, Марией Ермоловой и др.) либо отдельных стихотворений, либо фрагментов стихотворных драм.]. Чтец Георгий Артоболевский назовет эту манеру «истолковательной»[25 - Артоболевский Г. Очерки по художественному чтению: Сборник статей / Под ред. и с доп. С. И. Бернштейна. М.: Учпедгиз, 1959. С. 250.], имея в виду, что стих в произнесении актеров нередко приближается к нормам практической речи. «Актеры, – писал Бернштейн, – в своей декламации обычно строят паузальное членение всецело по семантико-синтактическому принципу»[26 - Бернштейн С. И. Голос Блока / Публ. А. Ивича и Г. Суперфина // Блоковский сборник II: Труды Второй науч. конф., посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1972. С. 465.]. Эта тенденция нашла яркое отражение в руководствах, издававшихся в первые два десятилетия ХX века. К примеру, в книге режиссера и теоретика декламации Юрия Озаровского «Музыка живого слова», вышедшей в 1914 году, различия между поэзией и прозой предлагалось устанавливать по «литературному содержанию». Так, стихотворное послание Ломоносова к Шувалову «О пользе стекла» нуждалось в «прозаической», объективной декламации, утверждал Озаровский, в отличие от фрагментов Толстого и Достоевского, исполнение которых потребует «яркого субъективного характера».
…Различий по существу в чтении стихов и прозы не существует: и стихи, и проза в декламационном исполнении подлежат одним и тем же обуславливаемым содержанием данного текста теоретическим законам и в отношении музыкальной формы передаются одинаково тщательно, одинаково красиво[27 - Озаровский Ю. Музыка живого слова. Основы русского художественного чтения. СПб.: Издание т-ва О. Н. Поповой, 1914. С. 204. В работе «Стих „Горя от ума“» Борис Томашевский приводил в пример издание пьесы Грибоедова, выпущенное в 1905 году Юрием Озаровским. Это было пособие для актеров и режиссеров, в котором текст комедии был напечатан как прозаический, сплошными строчками без разбивки на стихи. (См.: Томашевский Б. Стих и язык. М., Л.: Гос. изд. худож. лит., 1959. С. 133). См. также замечания о разработанном И. Л. Смоленским для нахождения логических ударений методе «скелетирования» в: Артоболевский Г. Очерки по художественному чтению. С. 20.)], —
подводил он итог. Другим примером той же тенденции служил практический совет Дмитрия Коровякова, авторитетного специалиста по выразительному чтению, который он давал работающим со стихотворными текстами декламаторам. В качестве приема, облегчающего распознавание логических ударений, он предлагал перекладывать стихотворную речь в прозаическую,
без прибавления каких-либо слов, ненаходящихся в тексте стихов, но обходясь только теми же словами, переставляемыми в прозаические формы. С этими же целями полезно разлагать сложные периоды на составляющие их предложения и сложные предложения – на простые[28 - Коровяков Д. Искусство выразительного чтения. СПб.: Тип. главного управления уделов, 1894. С. 81–82.].
К середине 1910?х годов теоретики и педагоги актерского и чтецкого искусства еще не видели каких-либо возможностей для развития исполнительской декламации в том, как современные авторы читали свои стихи и прозу. Однако уже в публикациях многих «живословцев» (Вс. Всеволодского-Гернгросса, Константина Эрберга (Сюннерберга), Вл. Пяста, С. Бернштейна) часто встречаются воспоминания о том, как, присутствуя при публичном чтении поэтом своих произведений, они открывали для себя самостоятельную художественную ценность звучащего стиха в авторской декламации. Более того, для Бориса Эйхенбаума, критиковавшего Озаровского за неразличение принципов чтения прозы и стиха[29 - См. критику работ Ю. Озаровского и С. Волконского в: Эйхенбаум Б. О камерной декламации. С. 512–518.], впечатления от знакомства с авторским чтением Александра Блока были неразрывны с ощущением неловкости, вызываемым исполнительским чтением.
Я помню, как еще в 1910 г. поражен был чтением Блока на вечере в память В. Ф. Комиссаржевской. Впервые не испытывал ощущения неловкости, смущения и стыда, которые неизменно вызывали во мне выразительные декламаторы и актеры с поставленными голосами и четкой дикцией, – писал Эйхенбаум в 1919 году. – С тех пор ходил слушать только поэтов. Создалось определенное представление о двух способах чтения стихов – так, как поэты, и не так. Потом появились оттенки – Блок, Ахматова, Гумилев, Мандельштам и т. д. Но как ни много оттенков – все это, прежде всего, иначе, чем у «поставленных»[30 - Эйхенбаум Б. О чтении стихов // Жизнь искусства. 1919. № 290. С. 1.].
Вечер, который вспоминал Эйхенбаум, прошел 7 марта 1910 года и был посвящен памяти рано скончавшейся актрисы Веры Комиссаржевской. Созданный ею театр, на короткое время в середине 1900?х объединивший вокруг себя круг поэтов и художников[31 - См.: «[Театр], сумевший осенью того года стать соединяющим центром для художников, писателей и артистов. Пусть это потом все расстроилось: и театр остыл, и художники и поэты разбрелись кто куда, – но тогда это был действительный центр…» (Городецкий С. В. Ф. Комиссаржевская и символисты // Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской. М.: Гос. изд. худож. лит., 1931. С. 64.)], служит самым наглядным примером происходивших изменений. По сравнению с рубежом веков, в первое десятилетие ХX века отношения между театром и поэзией, отражавшиеся в сближении и размежевании сценической речи и авторской декламации, стремительно усложнялись. Программа нескольких организованных театром в 1906 году «суббот», на которые приглашались в том числе и поэты-символисты, включала как авторское чтение, так и исполнительскую декламацию с театральными сценами. Константин Эрберг (Сюннерберг), коллега Эйхенбаума по ИЖС и участник «суббот», вспоминал, что осенью 1906 года театр инициировал эти встречи специально для того, чтобы познакомить актеров с другими, «нетеатральными» способами чтения модернистских текстов:
[Для трактовки модернистского репертуара] большинству актеров надо было познакомиться со многим, кроме «нутра» и так называемого «искусства выразительного чтения». Решено было устраивать в театре почаще собрания взаимного ознакомления театральных деятелей с литераторами и поэтами. Я бывал на нескольких таких собраниях. Ничего не выходило. Теоретические вопросы актеров (да и многих поэтов, к сожалению) совсем не интересовали: они просто молчали, очевидно, считая, что эти «лекции» не для них. Практические же выступления поэтов со своими стихами (Сологуб, Блок) резко отличались от въевшейся в актеров манеры читать, непременно играя какую-то роль, и были для актеров совсем неприемлемыми. Чувствовались разные культуры этих двух коллективов. Актерское чтение стихов мне очень не нравилось, особенно при выполнении ими новой поэзии. Даже лучшие, наиболее талантливые не могли избавиться от старых декламационных форм, за своей ветхостью уже давно не действенных. Новый репертуар требовал обновления декламационных форм. Актер должен был идти на выучку не к преподавателям декламации, которые, действуя по старинке, только портили дело, а к поэту[32 - Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг). Воспоминания / Публ. А. В. Лаврова и С. С. Гречишкина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л.: Наука, 1979. С. 134.].
Структура «суббот» в Театре Веры Комиссаржевской (театральные миниатюры, идущие встык с поэтическим чтением, исполнительской декламацией и т. д.) станет привычным явлением позднее, с появлением «Бродячей собаки» и театров малых форм в начале 1910?х годов. Для посетителей «суббот» подобная программа была еще необычной и делала наглядной не сходства между актерами и поэтами, а отличия. Можно осторожно предположить, что такая организация выступлений косвенно повлияла на ярко выраженную театрализацию выступлений поэтов постсимволизма. Так или иначе, вопрос взаимовлияний исполнительской и авторской декламации станет актуальным позже. Это коснется не только теории, но и практики: уже в начале 1920?х годов чтецы и актеры активно начнут использовать приемы и выразительные возможности авторского чтения в своем чтении. Однако на рубеже 1910–1920?х Эйхенбауму, Эрбергу и другим их коллегам по ИЖС было важно подчеркивать исторически существовавшее различие двух традиций, обосновывая этим противопоставлением свои идеи об эмансипации звучащего стиха от сферы театра. Эти различия по-прежнему продолжают отмечать и сегодня, хотя и сценическая речь, и авторское чтение претерпели за столетие огромные изменения.
За Таврическим садом
1905 год, согласно Всеволодскому-Гернгроссу, был рубежным в истории «живого слова». Этот год, переломный для общественной жизни в России, был также значим для истории модернистского театра: в 1905 году Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд предприняли попытку открыть в Москве театр-студию (подробнее об этом см. главу 5), отвечавшую новейшим театральным исканиям. Кроме того, с сентября того же года в петербургской квартире Вячеслава Иванова на Таврической улице, в «башне», начали проходить регулярные встречи[33 - См. Главу IV «Первый год «Башни» в: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники. М.: Изд-во Кулагиной, Intrada, 2009. С. 115–198.]. В восприятии большинства сотрудников Института живого слова «среды» стали если не главной, то одной из основных декламационных лабораторий современной поэзии. Всеволодский-Гернгросс вспоминал:
Чтение поэтами своих произведений перед тесным кружком друзей и товарищей – явление очень старое и никогда не претендовавшее на приобщение к миру явлений художественных. Так и в данном случае: все началось с того, что поэты-символисты собирались по средам у Вячеслава Иванова и за чашкой чая поочередно знакомили присутствовавших со своими стихами. При этом они были абсолютно далеки от роли декламаторов. Новая поэзия имела, вообще, громадный успех у публики, томики стихов раскупались очень быстро, но, к сожалению, по причинам, изложенным выше (неумение актеров исполнять современную поэзию. – В. З.), публика была лишена возможности наслаждаться этой поэзией вполне, что возможно только при декламационном ее произнесении. <…> …когда узнали, что поэты-символисты стали систематически выступать с произнесением своих стихов, интерес к их манере оказался громадным[34 - Всеволодский-Гернгросс В. Искусство декламации. С. 28–29. Ср. с другим его воспоминанием, менее критичным в отношении актерской декламации современной поэзии: «Пятнадцать лет тому назад, на средах у Вячеслава Иванова я в первый раз услышал иное чем актерское чтение стихов. Полная несхожесть приемов невольно приводит к одному из двух выводов: либо, что правы и те и другие, либо, что просто – поэты или актеры – неправы. Первый вывод был слишком неудобен для каждого из слушателей, второй – слишком резок для одного из исполнителей. Тем более что, вероятно, ведь ни те, ни другие не читали стихов так, а не иначе, только потому, что не умели, не дошли, или потому, что не хотели: ведь были же какие-то веские основания» (Всеволодский-Гернгросс В. Школы интерпретации поэтических текстов // Жизнь искусства. 1919. № 310. С. 1).].
Критик и историк литературы и театра Евгений Аничков описывал «среды» прежде всего как литературную институцию, обращая внимание на связь авторского исполнения с утверждением новых имен в поэзии:
Особенно знаменательны те среды, когда Кузмин, одновременно и композитор, и поэт, пел сначала свои «Александрийские песни», а после «Куранты Любви», или когда читал он своей своеобразной ритмической скороговоркой «Любовь этого лета». Отсюда пошла его известность. Весь Петроград, блестевший огнями там внизу, за Таврическим садом, будто слушал то, что читалось «на башне». Слушал, потому что прислушивался тогда к поэтическим событиям, а на башне они чередовались, неугомонно, не переставая и никогда не спускаясь до какой бы то ни было, даже самой новомодной рутины. Оттого, когда в одну и ту же ночь Александр Блок прочел на башне «Незнакомку», а Сергей Городецкий свои стихи об Удрасе и Барыбе, вошедшие в его лучший, первый сборник «Ярь», в эту среду русская поэзия обогатилась двумя новыми и не дольше как через две недели всем литературным миром признанными поэтами, признанными, хотя, конечно, непонятыми и высмеиваемыми за свои странные новшества.
Тут же, приезжая из Москвы, Андрей Белый, на распев под «Чижика» – это ново было в то время, – не то проговаривал, не то напевал свои стихи о том мертвеце, что лежал в гробу с костяным образком на груди и слышал своей бессмертной душой, как отпевал его дьякон, звякнув кадилом[35 - Аничков Е. Новая русская поэзия. Берлин: Издательство И. П. Ладыжникова, 1923. С. 47.].
На «башне» с художественным чтением дебютировал поэт, в последствии декламатор и сотрудник ИЖС Владимир Пяст. В своих воспоминаниях он уделил особое внимание перевороту во взглядах на исполнение модернистской поэзии с эстрады, случившемуся благодаря его выступлению:
Была еще такая «среда», в самом начале сезона, когда в присутствии большого количества наиболее избранных гостей я решил, как бы сказать, «поднести» каждому из бывших там поэтов – «самого его». Я произнес по нескольку стихотворений каждого. Присутствовавшие поэты одобрили. <…> Нужно добавить, что до той «среды», сколько мне известно (в этом смысле, помнится, и выразились некоторые из присутствовавших там лиц театрального мира), – ни один актер даже и не представлял себе, чтобы можно было говорить вслух с эстрады стихи модернистов, декадентов, вообще современных поэтов. После Надсона и, кроме каких-то специально «декламационных» произведений каких-то неизвестных авторов, все живущие поэты признавались в ту пору совершенно непригодными для чтения вслух[36 - Пяст Вл. Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 71. О том, что большинство актеров долгое время не принимали новой поэзии и не умели ее декламировать, вспоминал и Всеволодский-Гернгросс (Всеволодский–Гернгросс В. Искусство декламации. С. 28). Но слова Пяста не совсем точны. Еще до начала работы над спектаклями так не открывшегося Театра-студии на Поварской, в первой половине 1905 года, Мейерхольд с Товариществом новой драмы проводил в Николаеве чтения современной поэзии: после коротких пьес актеры иногда выступали с чтением стихотворений из «Литургии красоты» К. Бальмонта (см.: Волков Н. Мейерхольд: В 2 т. М., Л.: Academia, 1929. Т. 1. С. 194). Есть и другие свидетельства о чтении актерами стихов символистов. Об обращении Н. Волоховой к Блоку с просьбой дать стихи для чтения на концертах см.: Веригина В. П. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. C. 415. См. ее же воспоминания о чтении «Кентавра» А. Белого на вечере певца Н. Фигнера в Малом зале Консерватории (Там же. С. 452).].
Если «среды» на «башне» Иванова, по общему убеждению сотрудников Института живого слова, создавали условия для бытования авторского чтения символистов, то в художественном отношении его высшим достижением стало чтение стихов Александром Блоком. Сдержанность, отстраненность, простота – слова, чаще других встречающиеся в многочисленных воспоминаниях о блоковском чтении. И тем более удивительно, что именно блоковская декламация «сдержанно-эмоционального повествовательного стиля», тяготевшая, по словам Бернштейна, к тону интимной беседы, окажет огромное влияние на интерес к звучащей художественной речи в России и надолго сохранится в памяти современников. В «Голосе Блока» Бернштейн рассматривал авторское чтение Блока как с точки зрения его природных голосовых данных, так и «определенных художественных приемов, применявшихся с целью эстетического воздействия»[37 - Бернштейн С. Голос Блока. С. 459. В 1920 году Блок одним из первых был записан Сергеем Бернштейном на фонограф для создававшегося в Институте живого слова архива современной звучащей поэзии. Выводы в статье основывались на анализе этих звукозаписей.] и создававших эффект, который исследователь называл стилизованной безыскусностью[38 - Там же. С. 465.]. Останавливаясь на отступлениях от норм разговорной интонации в пользу мелодизации стиха в декламации, Бернштейн также отмечал в чтении поэта такие особенности, как обилие пауз, которыми были отмечены участки внутри стиха, концы строк и строф; равновесность динамических ударений (уравнительную тенденцию) на каждом из метрически ударяемых слов в стихе и т. д. Усиленные ударения в чтении Блока, писал он, создавали для слушателей эффект сдержанного волнения в эмоциональной речи, «волнения, которое говорящий вынуждает себя сдержать, чтобы не нарушить связного течения потока речи»[39 - Там же. С. 469.].
Главную особенность авторского чтения Блока Бернштейн видел в балансе между эмоционально-смысловым началом в декламации, покоящимся на синтактико-семантическом основании текстов, и отступлениями от норм в пользу мелодизации, иначе говоря, последовательными подчеркиваниями в декламации собственно стиховой природы текста.
Основная задача декламатора, остающегося в пределах данного стиля, может быть сформулирована как выражение эмоционального и рационального содержания стихотворения средствами обычной (прозаической) речевой интонации. Однако стихотворная форма в устах поэта не могла не наложить своего отпечатка на те факторы речи, которые зависят от намерений исполнителя. Тем не менее, взаимоотношение между смысловым и фоническим факторами в декламации Блока слагается определенно и решительно в пользу первого[40 - Там же. С. 462.].
Точка зрения, согласно которой декламация Блока провела границу между двумя способами чтения стихов – исполнителей и авторов, – высказывалась в те годы не только Борисом Эйхенбаумом. Отсылки к тому, как поэт читал свои стихи, подкрепляли в те годы доводы сторон в спорах о разных декламационных манерах. Ярким примером этого служат статьи Владимира Пяста, выступавшего в качестве теоретика декламации и сформулировавшего в начале 1920?х, в годы его работы в ИЖС, ряд правил чтения стиха[41 - В конспективном виде они содержатся уже в статье Пяста «Верните актера» (Жизнь искусства. 1919. № 304), опубликованной в ответ на процитированную выше статью Б. Эйхенбаума «О чтении стихов».]. В пястовском анализе средств мелодизации стиха, используемых Блоком-чтецом[42 - См.: Пяст Вл. Два слова о чтении Блоком стихов.], нетрудно распознать черты его собственной, отличающейся ригоризмом системы, оформившейся к рубежу 1910–1920?х годов и получившей характерное название закона неприкосновенности звуковой формы[43 - См.: От составителей // Современный декламатор / Под ред. Н. Омельянович и Вл. Пяста. Л.; М.: Книга, 1926. С. 5.]. От чтеца Пяст требовал соблюдать:
1) Приблизительную изохронность (равенство во времени для произнесения) соответственных ритмически стихов и простоту числовых соотношений между временами произнесения строк, одна другой метрически не соответствующих.
Пример:
Я видел, как вчера твои бежали волны;
Они, при ярком свете дня,
Играя и журча, летучим блеском полны,
Качали ласково меня.
(Языков)
Первая и третья строка должны быть произнесены здесь в равный промежуток времени; вторая и четвертая – в равное между собой и меньшее, чем требующееся для произнесения нечетных строк, время – приблизительно в 1,5 раза.
Другие электронные книги автора Валерий Сергеевич Золотухин
Секрет Высоцкого




 4.5
4.5