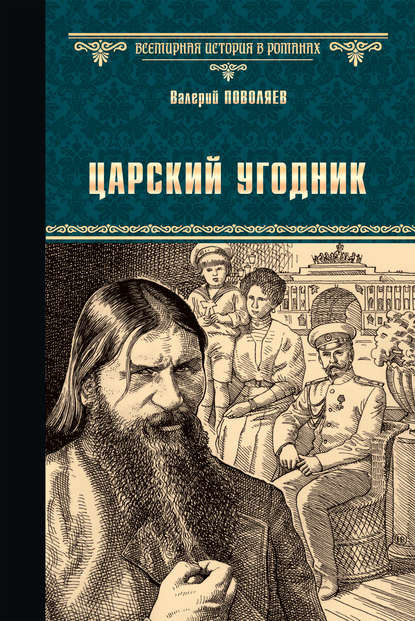По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царский угодник
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раздался второй сигнал серебряного рожка – до начала скачек оставалось три минуты.
– Вы будете ставить на лошадей? – спросила Лебедева.
– Мне никогда не везет: несколько раз ставил – выигрыша не было.
– А вдруг повезет?! Попробуйте! – предложила Лебедева.
Распутин в ответ хмуро качнул головой:
– Чего искушать судьбу?
– Полноте, Григорий Ефимович! – Лебедева потеребила его за рукав. – Какая уж тут судьба? Мелочи одни!
– Не скажите! – строго произнес Распутин.
Лебедева уговорила Распутина – он поставил на вороного жеребца по кличке Чардаш, на котором шел жокей Свирицкий.
– Если не повезет – вы будете виноваты, Зинаида Сергеевна.
– Беру этот грех на себя!
Распутин промолчал, улыбнулся. Не удержавшись, вздохнул:
– О-хо-хо! – Поймав взгляд Лебедевой, сказал: – Папа меня послушается! Обязательно послушается. А если не послушается, то как же он будет выглядеть перед мамой? А? Вот вопрос. – Распутин поймал зоркими глазами хищную птицу, повисшую в небе, прищурился, словно бы беря ее в прицел. – И птицы эти – не к добру, – сказал он, – летает очень хищная птаха, ворона перед ней – ребенок.
Распутин искренне считал, что воевать с организованной, обутой в хорошие хромовые сапоги, имеющей сильный флот и авиацию, вооруженной пушками Круппа Германией нельзя. Бесполезно. Так считали и сильные мира сего: Штюрмер, Маклаков, Протопопов, Белецкий <см. Комментарии, Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович…>. Но и Штюрмер и Протопопов выражали эту точку зрения осторожно, боясь вызвать недовольство, а Распутин в словах себя не ограничивал, что думал, то и говорил. Не боясь, что его поймут неправильно или того хуже – накажут. Чего-чего, а наказания он не боялся. «Если что – маме пожалуюсь, мама, она всем заступница, а мне – в первую очередь», – подчеркивал Распутин.
Пользуясь тем, что царица принимала его, а царь Николай Александрович, находившийся под пятой своей жены, обязательно выходил к «старцу», когда бывал дома, Распутин назначил немало людей на высшие посты России, в том числе и министерские. Нельзя сказать, чтобы он делал это за взятки, хотя от денег он никогда не отказывался, с одинаковой легкостью беря и три тысячи рублей, и двадцать копеек, или преследовал личные цели – нет, Распутину нравилась власть, нравилось то, что он потом мог сказать своему подопечному при людях: «Ты, батенька, опять сегодня с утра не высморкался, на носу – вона, мутная капля висит, отойди-ка в сторону, вытрись! Носовой-то платок есть? Свежего не дать?» И надо было видеть при этом его торжествующее лицо, осанку и взгляд, брошенный на чины сопровождения и охраны – те выпячивались перед своим шефом и тушевались, и вообще Распутину доставляло удовольствие сознание того, что он может делать то, чего не могут делать другие.
Кто такой Распутин? Человек, который потряс в начале двадцатого века Россию? Нет, он потряс не только Россию, о нем часто писали газеты Франции, Англии, Германии, Италии – об иных коронованных особах, прибывающих с визитами в Париж или на водные курорты Баден-Бадена, не писали так, как писали о Распутине. В России газеты фиксировали почти каждый шаг «старца» – вначале какая-нибудь столичная газета, а потом за ней – словно бы по цепи – почти все газеты от Смоленска до Владивостока. Например, стоило газете «День» поместить заметку «Квартира на Английском проспекте, где проживал Распутин, сдается», как эту заметку мигом подхватывали почти все петербургские и московские газеты, а за ними и все другие прочие…
Особенно любили газеты перепечатывать заметки типа «22 марта выехал в Тюмень Гр. Распутин с отцом». Таких заметок не давали даже о передвижении министра внутренних дел России Маклакова – жизнь Маклакова была куда скромнее, чем жизнь Распутина, и хроникеры редко проникали в нее. Расположение Распутина часто значило больше, чем расположение Маклакова или директора Департамента полиции Белецкого.
Каждое утро в его квартиру набивалось много народа: генералы сидели на одной скамье с оборванными нищими, юные, пугливые гимназистки – с безносыми бородатыми старухами, от которых пахло навозом, блестящие франты, выходцы из высшего света, – с безродными работягами, ночующими в подвалах, худосочные чиновники в протертых брюках, которым надо было получить хотя бы малую прибавку к жалованью – рядом с людьми, которым ничего не надо было, они оказались в распутинской гостиной только ради любопытства: хотелось увидеть Распутина – тобольского мужика, чьи изречения царица Александра Федоровна заносила наряду с изречениями известных зарубежных мудрецов к себе в отдельную книжечку.
В девять утра – иногда на несколько минут позже, но почти всегда в одно и то же время – в гостиной, позевывая, выскребая из бороды крошки, появлялся Распутин, отвешивал общий поклон:
– Здрассте вам!
– Одет он был по большей части в знакомую красную рубаху и черные тонкие брюки – суконные, рубчиковые или шелковые, наиболее подходящие для жаркой погоды и плясок, на ногах красовались легкие галоши либо черные лакированные туфли: в доме Распутин сапог не признавал, считал их тяжелой обувью, – и что всем бросалось в глаза, галоши и туфли он надевал на босу ногу и иногда, когда сидел, вытаскивал ногу из галоши и шевелил длинными, покрытыми редким волосом пальцами – это доставляло ему удовольствие.
Если хор голосов, отзывавшихся на распутинское «здрассте вам» был нестройным, Распутин, добродушно щурясь, повторяя:
– Здрассте вам! – и снова отвешивал поклон. Выслушав ответ, начинал обход собравшихся.
Он шел по кругу, останавливался у каждого, заглядывая в глаза, брал заготовленную бумагу, если она была заготовлена, кивал: «Ладно, помогу» или: «Переговорю тут с одним человеком, он может подсобить», – в основном ему подавали прошения о продвижении по службе, о поручительстве в заеме денег под имущество, и старец почти все выполнял, но случалось, что Распутин останавливался у иного просителя и брал его за пуговицу. Произносил истончившимся, каким-то дырявым голосом:
– Слушай, милый, а ведь я тебе уже два раза помогал… В этом самом… в продвижении по службе. Ты дважды продвинулся, но надежд не оправдал… Ты, б-батенька, знаешь кто? – Ты… – ты сам знаешь кто! Иди-ка, друг, отсюда и больше не приходи – Не глядя в бледное, вытянутое лицо «не оправдавшего надежд», Распутин двигался дальше – память у «старца» была острой, он помнил почти всех людей, с которыми встречался и имел дело.
Нищим, пришедшим к нему на «утренний прием», он давал деньги – в основном мелочь, но, случалось, доставал из кармана и серебряный рубль – деньги по тем временам немалые – и с размаху, громко, словно грузчик, шлепая его в протянутую ладонь – жадным «старец» не считался и денег у себя не держал, одной рукой он брал деньги, другой давал.
Часа за полтора Распутин управлялся со всеми, кто находился в прихожей. По свидетельству Департамента полиции, который вел за Распутиным тайное наблюдение, в день у него иногда бывало до трехсот человек. Потом «старец» уходил пить чай с баранками и вареньем. Больше всего на свете Распутин любил баранки, варенье и семечки.
Варенье для него специально готовили поклонницы, семечки присылали из деревень.
В час дня к подъезду подкатывал автомобиль, за рулем которого сидел шофер в рыжей непродуваемой куртке и «аэропланных» очках, украшающих мягкий французский шлем. Распутин выходил из подъезда и садился в авто.
Под уважительными взглядами зевак автомобиль пускал кудрявую струю дыма, заставлял людей чихать и морщиться, шофер нажимал на резиновую грушу клаксона и отъезжал. Распутин отправлялся с визитами к «сильным мира сего» – тем, кто мог дать ход бумагам, собранным во время приема.
Возвращался он вечером, иногда совсем поздно, часто в подпитии, пахнущий сладкой марсалой или одним из самых любимых своих вин, которое он называл одинаково любовно «мадерцей»:
– Мадерца тоску снимает!
Санкт-Петербург той поры был полон странных людей, многие из которых попали в окружение Распутина – их словно бы течение специально прибивало к квартире «старца», будто сор, иногда они задерживались надолго, иногда пропадали, чтобы потом возникнуть вновь, некоторые же исчезали навсегда.
Одной из главных среди них была, несомненно, Лохтина, «штатская генеральша». Это ей, по преданию, Распутин был обязан грамотой – она научила его из палочек-черточек складывать буквы, и Распутин, познав их, долго сидел с изумленным лицом.
Впоследствии Распутин так и писал – крупными палочками с округленными макушками и низами, там, где буквы надо было округлять, с большим количеством ошибок. Он умудрялся в слове из трех букв сделать пять ошибок: слово «еще» он писал «истчо». Почти все знаменитые его записки-«пратецы» – послания различного рода начальникам – начинались словами: «милай дарагой памаги» – без всяких знаков препинания, и «старец» очень обижался, если его цидулы оставались без внимания.
Генеральша была дамой оригинальной, ходила в белом либо в черном цилиндре пушкинской поры, густо красилась, возраста была неопределенного и первой в Питере положила глаз на «старца», трезво оценив его жилистую фигуру, возможности по части разных удовольствий и одновременно – святости, и решила совместить приятное с полезным. Многие считали ее сумасшедшей, но Лохтина показала себя далеко не сумасшедшей (хотя годы свои закончила в психиатрической клинике) и на истории с Распутиным сумела сколотить себе немалый капитал. Впрочем, желание получить удовольствие иногда брало верх над разумом, и тогда Ольгу Константиновну одолевали бесы.
Лучшим лекарством от этого был Распутин, он, как никто, умел мастерски изгонять бесов, и Лохтина часто пользовалась «лекарством», но потом надоела «старцу», и он только морщился при виде ее.
Однажды она приехала к нему даже в Покровское – прикатила на богатой коляске, увешанной лихо тренькающими колокольчиками, подняв на деревенской тихой улице огромный столб пыли.
Распутин, почесываясь и зевая, вышел на крыльцо.
– Ну, чего пылюгу подняла?
Лохтина, уловив в голосе «старца» сердитые нотки, бухнулась перед ним на колени, прямо на загаженную курами и поросятами землю:
– Прими, отец родной!
Распутин с неожиданным интересом глянул на генеральшу.
– Заходи, – сказал он и посторонился, пропуская в дом Лохтину, украшенную какими-то блестками, ленточками, металлической рыбьей чешуей, перьями, цветными пуговицами, стеклярусом, кнопками, кружевами, рюшечками, оборками, – и всего этого было видимо-невидимо, глянул во двор – нет ли посторонних глаз, и плотно закрыл за собою дверь.
Через час генеральша с визгом вылетела на крыльцо, следом за ней вынесся босоногий, растрепанный, с клочкастой бородой, хрипящий Распутин, догнал генеральшу и со всего маху припечатал ее сзади ногой. Генеральша только взвизгнула, слетая с крыльца.
Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.
Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.
– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.
– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.
А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.
– Вы будете ставить на лошадей? – спросила Лебедева.
– Мне никогда не везет: несколько раз ставил – выигрыша не было.
– А вдруг повезет?! Попробуйте! – предложила Лебедева.
Распутин в ответ хмуро качнул головой:
– Чего искушать судьбу?
– Полноте, Григорий Ефимович! – Лебедева потеребила его за рукав. – Какая уж тут судьба? Мелочи одни!
– Не скажите! – строго произнес Распутин.
Лебедева уговорила Распутина – он поставил на вороного жеребца по кличке Чардаш, на котором шел жокей Свирицкий.
– Если не повезет – вы будете виноваты, Зинаида Сергеевна.
– Беру этот грех на себя!
Распутин промолчал, улыбнулся. Не удержавшись, вздохнул:
– О-хо-хо! – Поймав взгляд Лебедевой, сказал: – Папа меня послушается! Обязательно послушается. А если не послушается, то как же он будет выглядеть перед мамой? А? Вот вопрос. – Распутин поймал зоркими глазами хищную птицу, повисшую в небе, прищурился, словно бы беря ее в прицел. – И птицы эти – не к добру, – сказал он, – летает очень хищная птаха, ворона перед ней – ребенок.
Распутин искренне считал, что воевать с организованной, обутой в хорошие хромовые сапоги, имеющей сильный флот и авиацию, вооруженной пушками Круппа Германией нельзя. Бесполезно. Так считали и сильные мира сего: Штюрмер, Маклаков, Протопопов, Белецкий <см. Комментарии, Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович…>. Но и Штюрмер и Протопопов выражали эту точку зрения осторожно, боясь вызвать недовольство, а Распутин в словах себя не ограничивал, что думал, то и говорил. Не боясь, что его поймут неправильно или того хуже – накажут. Чего-чего, а наказания он не боялся. «Если что – маме пожалуюсь, мама, она всем заступница, а мне – в первую очередь», – подчеркивал Распутин.
Пользуясь тем, что царица принимала его, а царь Николай Александрович, находившийся под пятой своей жены, обязательно выходил к «старцу», когда бывал дома, Распутин назначил немало людей на высшие посты России, в том числе и министерские. Нельзя сказать, чтобы он делал это за взятки, хотя от денег он никогда не отказывался, с одинаковой легкостью беря и три тысячи рублей, и двадцать копеек, или преследовал личные цели – нет, Распутину нравилась власть, нравилось то, что он потом мог сказать своему подопечному при людях: «Ты, батенька, опять сегодня с утра не высморкался, на носу – вона, мутная капля висит, отойди-ка в сторону, вытрись! Носовой-то платок есть? Свежего не дать?» И надо было видеть при этом его торжествующее лицо, осанку и взгляд, брошенный на чины сопровождения и охраны – те выпячивались перед своим шефом и тушевались, и вообще Распутину доставляло удовольствие сознание того, что он может делать то, чего не могут делать другие.
Кто такой Распутин? Человек, который потряс в начале двадцатого века Россию? Нет, он потряс не только Россию, о нем часто писали газеты Франции, Англии, Германии, Италии – об иных коронованных особах, прибывающих с визитами в Париж или на водные курорты Баден-Бадена, не писали так, как писали о Распутине. В России газеты фиксировали почти каждый шаг «старца» – вначале какая-нибудь столичная газета, а потом за ней – словно бы по цепи – почти все газеты от Смоленска до Владивостока. Например, стоило газете «День» поместить заметку «Квартира на Английском проспекте, где проживал Распутин, сдается», как эту заметку мигом подхватывали почти все петербургские и московские газеты, а за ними и все другие прочие…
Особенно любили газеты перепечатывать заметки типа «22 марта выехал в Тюмень Гр. Распутин с отцом». Таких заметок не давали даже о передвижении министра внутренних дел России Маклакова – жизнь Маклакова была куда скромнее, чем жизнь Распутина, и хроникеры редко проникали в нее. Расположение Распутина часто значило больше, чем расположение Маклакова или директора Департамента полиции Белецкого.
Каждое утро в его квартиру набивалось много народа: генералы сидели на одной скамье с оборванными нищими, юные, пугливые гимназистки – с безносыми бородатыми старухами, от которых пахло навозом, блестящие франты, выходцы из высшего света, – с безродными работягами, ночующими в подвалах, худосочные чиновники в протертых брюках, которым надо было получить хотя бы малую прибавку к жалованью – рядом с людьми, которым ничего не надо было, они оказались в распутинской гостиной только ради любопытства: хотелось увидеть Распутина – тобольского мужика, чьи изречения царица Александра Федоровна заносила наряду с изречениями известных зарубежных мудрецов к себе в отдельную книжечку.
В девять утра – иногда на несколько минут позже, но почти всегда в одно и то же время – в гостиной, позевывая, выскребая из бороды крошки, появлялся Распутин, отвешивал общий поклон:
– Здрассте вам!
– Одет он был по большей части в знакомую красную рубаху и черные тонкие брюки – суконные, рубчиковые или шелковые, наиболее подходящие для жаркой погоды и плясок, на ногах красовались легкие галоши либо черные лакированные туфли: в доме Распутин сапог не признавал, считал их тяжелой обувью, – и что всем бросалось в глаза, галоши и туфли он надевал на босу ногу и иногда, когда сидел, вытаскивал ногу из галоши и шевелил длинными, покрытыми редким волосом пальцами – это доставляло ему удовольствие.
Если хор голосов, отзывавшихся на распутинское «здрассте вам» был нестройным, Распутин, добродушно щурясь, повторяя:
– Здрассте вам! – и снова отвешивал поклон. Выслушав ответ, начинал обход собравшихся.
Он шел по кругу, останавливался у каждого, заглядывая в глаза, брал заготовленную бумагу, если она была заготовлена, кивал: «Ладно, помогу» или: «Переговорю тут с одним человеком, он может подсобить», – в основном ему подавали прошения о продвижении по службе, о поручительстве в заеме денег под имущество, и старец почти все выполнял, но случалось, что Распутин останавливался у иного просителя и брал его за пуговицу. Произносил истончившимся, каким-то дырявым голосом:
– Слушай, милый, а ведь я тебе уже два раза помогал… В этом самом… в продвижении по службе. Ты дважды продвинулся, но надежд не оправдал… Ты, б-батенька, знаешь кто? – Ты… – ты сам знаешь кто! Иди-ка, друг, отсюда и больше не приходи – Не глядя в бледное, вытянутое лицо «не оправдавшего надежд», Распутин двигался дальше – память у «старца» была острой, он помнил почти всех людей, с которыми встречался и имел дело.
Нищим, пришедшим к нему на «утренний прием», он давал деньги – в основном мелочь, но, случалось, доставал из кармана и серебряный рубль – деньги по тем временам немалые – и с размаху, громко, словно грузчик, шлепая его в протянутую ладонь – жадным «старец» не считался и денег у себя не держал, одной рукой он брал деньги, другой давал.
Часа за полтора Распутин управлялся со всеми, кто находился в прихожей. По свидетельству Департамента полиции, который вел за Распутиным тайное наблюдение, в день у него иногда бывало до трехсот человек. Потом «старец» уходил пить чай с баранками и вареньем. Больше всего на свете Распутин любил баранки, варенье и семечки.
Варенье для него специально готовили поклонницы, семечки присылали из деревень.
В час дня к подъезду подкатывал автомобиль, за рулем которого сидел шофер в рыжей непродуваемой куртке и «аэропланных» очках, украшающих мягкий французский шлем. Распутин выходил из подъезда и садился в авто.
Под уважительными взглядами зевак автомобиль пускал кудрявую струю дыма, заставлял людей чихать и морщиться, шофер нажимал на резиновую грушу клаксона и отъезжал. Распутин отправлялся с визитами к «сильным мира сего» – тем, кто мог дать ход бумагам, собранным во время приема.
Возвращался он вечером, иногда совсем поздно, часто в подпитии, пахнущий сладкой марсалой или одним из самых любимых своих вин, которое он называл одинаково любовно «мадерцей»:
– Мадерца тоску снимает!
Санкт-Петербург той поры был полон странных людей, многие из которых попали в окружение Распутина – их словно бы течение специально прибивало к квартире «старца», будто сор, иногда они задерживались надолго, иногда пропадали, чтобы потом возникнуть вновь, некоторые же исчезали навсегда.
Одной из главных среди них была, несомненно, Лохтина, «штатская генеральша». Это ей, по преданию, Распутин был обязан грамотой – она научила его из палочек-черточек складывать буквы, и Распутин, познав их, долго сидел с изумленным лицом.
Впоследствии Распутин так и писал – крупными палочками с округленными макушками и низами, там, где буквы надо было округлять, с большим количеством ошибок. Он умудрялся в слове из трех букв сделать пять ошибок: слово «еще» он писал «истчо». Почти все знаменитые его записки-«пратецы» – послания различного рода начальникам – начинались словами: «милай дарагой памаги» – без всяких знаков препинания, и «старец» очень обижался, если его цидулы оставались без внимания.
Генеральша была дамой оригинальной, ходила в белом либо в черном цилиндре пушкинской поры, густо красилась, возраста была неопределенного и первой в Питере положила глаз на «старца», трезво оценив его жилистую фигуру, возможности по части разных удовольствий и одновременно – святости, и решила совместить приятное с полезным. Многие считали ее сумасшедшей, но Лохтина показала себя далеко не сумасшедшей (хотя годы свои закончила в психиатрической клинике) и на истории с Распутиным сумела сколотить себе немалый капитал. Впрочем, желание получить удовольствие иногда брало верх над разумом, и тогда Ольгу Константиновну одолевали бесы.
Лучшим лекарством от этого был Распутин, он, как никто, умел мастерски изгонять бесов, и Лохтина часто пользовалась «лекарством», но потом надоела «старцу», и он только морщился при виде ее.
Однажды она приехала к нему даже в Покровское – прикатила на богатой коляске, увешанной лихо тренькающими колокольчиками, подняв на деревенской тихой улице огромный столб пыли.
Распутин, почесываясь и зевая, вышел на крыльцо.
– Ну, чего пылюгу подняла?
Лохтина, уловив в голосе «старца» сердитые нотки, бухнулась перед ним на колени, прямо на загаженную курами и поросятами землю:
– Прими, отец родной!
Распутин с неожиданным интересом глянул на генеральшу.
– Заходи, – сказал он и посторонился, пропуская в дом Лохтину, украшенную какими-то блестками, ленточками, металлической рыбьей чешуей, перьями, цветными пуговицами, стеклярусом, кнопками, кружевами, рюшечками, оборками, – и всего этого было видимо-невидимо, глянул во двор – нет ли посторонних глаз, и плотно закрыл за собою дверь.
Через час генеральша с визгом вылетела на крыльцо, следом за ней вынесся босоногий, растрепанный, с клочкастой бородой, хрипящий Распутин, догнал генеральшу и со всего маху припечатал ее сзади ногой. Генеральша только взвизгнула, слетая с крыльца.
Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.
Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.
– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.
– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.
А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.