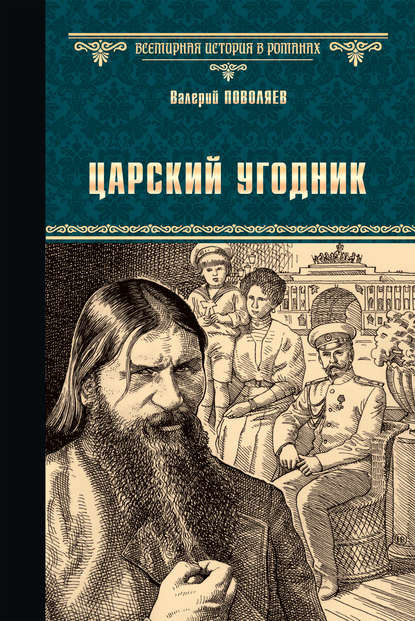По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царский угодник
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут в избе что-то заухало, засипело, будто огонь в паровозном котле, стены дома дрогнули, и у мужиков зашевелились волосы.
– Выпустите нас отсюда! – заорали они сразу в несколько глоток.
Стражники, сидящие на крыльце, забеспокоились – им тоже стало что-то не по себе: крыльцо начало скрипеть, шататься, словно при землетрясении, горизонт накренился и так, в накрененном состоянии, и застыл – у нечистой силы был суровый характер, она не любила шутить.
– Смерть Хвеонии Гусевой! – прокричал кто-то в пустой избе – один из девяти арестованных, похоже, сошел с ума
– Разве так можно? – прошептал кто-то из охранников. – А что скажет господин полицейский исправник?
На допросе Феония Гусева упрямо молчала – стиснув зубы, прижав ладонь ко рту, она лишь мотала головой, отказываясь отвечать. Когда с нее стянули шаль, то люди, которые вели допрос, отшатнулись от Феонии – лицо ее было сплошь покрыто болячками, какими-то детскими, золотушными болячками, коростой, на носу тоже сидела большая золотушная блямба.
Следователь с брезгливой миной на лице бросил шаль на пол. Феония спокойно нагнулась, подняла шаль и натянула себе на голову:
– Сейчас я в тебя плюну. – У Феонии неожиданно прорезался сильный, звучный голос. – До конца дней своих будешь лечиться!
Следователь поспешно отодвинулся от Феонии, стал задавать вопросы из угла избы. Феония молчала, она словно бы не слышала вопросов, словно бы не понимала следователя, словно бы не разумела русскую речь, хотя только что говорила, грозила юному, с щегольскими усиками, будто приклеенными к бровастому щекастому лицу, следователю – ведь она действительно могла плюнуть в офицера какой-нибудь заразой, слюной, кишащей микробами, и тогда офицерик этот свое бы имение спустил на лекарства.
Чем была больна Феония, следователь не знал, но на всякий случай старался держаться от нее подальше. И правильно делал. Пощипывая усики, он записал для себя на листе бумаги кое-какие наблюдения – что-то вроде заметок на память…
«Проверить, сколько ей лет. Наверное, около тридцати. Может, чуть больше. Незагорелая кожа, болячки – очень странные болячки. Платье простое, черного монашеского цвета, но под простым этим платьем – очень дорогое белье, которое простолюдины не носят. Отказывается есть и пить – ничего не хочет брать в рот!» Следователь был грешен – пописывал стишки и стремился, чтобы из-под его пера выходили только грамотные тексты, и главное – чтобы они были живыми, поскольку мертвая полицейская сухомятина уже всем надоела смертельно. Скулы от нее сводит.
Поздно вечером Феония все-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов – всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он – антихрист!»
Когда ее увели на ночь в камеру, – если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, – это было мрачное деревянное, темное, пахнущее сеном и мышами помещение, – она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно – бить стекло.
Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло – то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась – звук разбитого стекла мог привлечь стражников.
Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и темным – в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать – в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, – но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нем снова начал шуметь-волноваться народ.
Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодежь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву – в воздухе противно попахивало кровью, пеплом, лекарствами, болью.
Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок, Феония поспешно выдернула ею, прислушалась, стараясь понять, услышал ее стражник или нет?
Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то – все смешалось, а нечеткий звон разбитого стекла охранник все же услышал – у него оказался тонкий слух, – затопал ногами, забряцал тяжелым замком, и Феония, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по ее мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.
Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.
– Эй! – позвал он.
Керосиновым фонарем осветил лежавшую на полу Феонию.
Человек он был опытный, все сразу понял, позвал напарника, вдвоем они не дали Феонии умереть. Отняли у нее осколок, который она намертво зажала в ладони, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики – чтоб и впредь было неповадно – основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать ей руки, но не стали.
А Распутин все продолжал хрипеть в своем доме – он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей – маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными – стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас – Распутин и ее выдержит.
Почти все запросы о Феонии были пустые, у полиции сведений на нее имелось мало – она не проходила ни по одному делу.
В тот же день полиция стала искать одного журналиста, который ехал вместе с Распутиным в поезде, – о нем сообщили дамы из свиты «старца». Кстати, по поводу распутинских дам полиция получила приказ: собрать всех в одну кошелку, доставить в Тюмень и посадить в поезд, идущий в Санкт-Петербург, – нечего им шуршать юбками в Покровском! Допрашивать дам полиция опасалась – слишком уж высокие семьи они представляли, всей России были известны их фамилии.
Утром бледная, как мел, после бессонной ночи и переживаний, перевязанная обрывками бинтов, Феония призналась дотошному молодому следователю, что действовала она по указке Илиодора, а еще мстила за поруганную Распутиным подругу – монахиню Ксению. Несколько месяцев она следила за Распутиным, раньше держала при себе сапожный нож, но в Ялте ей подвернулся тесак, она его купила и хотела там же, в Ялте, расправиться со «старцем», но ей ни разу не удалось приблизиться к нему: Распутин все время находился в окружении людей, в Петербурге тоже не удалось, и тогда она приехала следом за ним в Покровское.
Наконец Распутину сделали операцию, почистили кишечник, заштопали несколько порезов, осмотрели и подлечили мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Но Распутин пока не приходил в себя. Через день температура пошла на убыль. Это был хороший знак.
Судьба Илиодора сложилась неудачно, вроде бы он был на коне – вместе с Гермогеном брал верх над Распутиным, но нет – Распутин рассчитал позицию куда вернее, чем они с Гермогеном, и сумел обезножить коня, на котором они скакали. Илиодор впал в немилость. Вообще, фигура Илиодора представляет интерес для всякого пытливого человека. В архиве сохранилось несколько папок Департамента полиции с пометками «Бывший иеромонах Илиодор». В молодости он баловался революционной деятельностью – именно баловался, хотя сам относился к этому очень серьезно и, несмотря на монашеский постриг и отвращение к оружию, пробовал даже стрелять из тяжелого, намертво отшибающего руку револьвера, учился разбирать и собирать мосинскую винтовку-трехлинейку, был знаком с устройством самодельной бомбы.
«Иеромонах Почаевской лавры Илиодор в начале 1908 года ввиду несоответствия проповеднической деятельности был переведен по распоряжению духовного начальства на жительство в город Царицын, – следовало из полицейского досье, – а затем ввиду неисправимости и обострившихся на этой почве отношений с гражданскими властями – переведен из Саратовской епархии в Минскую».
Но жители Царицына обратились к государю-императору, и тот 3 апреля написал на прошении: «Жалея духовных детей иеромонаха Илиодора, разрешаю ему возвратиться в Царицын на испытание, и в последний раз».
Из досье следовало, что 5 ноября 1909 года Илиодор произнес проповедь, в которой говорил об угнетении богатыми неимущего класса. Предупреждение, сделанное полицией, на иеромонаха не подействовало: революционная борьба была для него как сладостная чесотка – чем больше чешешь, тем лучше. Он считал себя привязанным к революции на всю жизнь. 29 ноября 1909 года Илиодор выехал из Царицына в Тобольск, 21 декабря вернулся. После приезда из Сибири выступал перед рабочими с зажигательными речами, о чем существуют рапорты начальника жандармского управления и саратовского губернатора графа Татищева российскому премьеру П.А. Столыпину.
На бумагах той поры стояли грифы «доверительно», «секретно» и «конфиденциально». Из бумаги под грифом «доверительно» следовало, что у Илиодора был «громкий, крикливый, немного режущий ухо голос с нервною хрипотой. Черная ряса, такой же клобук, бледное, худое, изможденное лицо с небольшою черной внушительной бородой».
Чтобы понять этого «революционера», его надо процитировать – и тогда все встанет на места… В одной из проповедей в Царицыне, записанной полицейским агентом, Илиодор, например, говорил:
– Попал я в Почаев. Там – хохлы, народ тоже крепкий, сильный, в плечах косая сажень, кулак вот какой! – Надо полагать, хилый Илиодор пудовым кулаком похвастаться не мог, поэтому он сложил вместе два своих кулака, добавил к ним для увесистости еще что-то и показал народу. – Стал с ними, с хохлами, значит, беседовать. Когда они узнали, что такое конституция и революция, глаза у них налились кровью. Подняли они кулаки и говорят мне: «Скажи, батюшка, где эта самая конституция находится? Мы ее так пришибем, что только мокренько останется!»
– В Петербурге! – сказал хохлам Илиодор. Те даже взвыли от ненависти к столице России.
На той же показательной проповеди Илиодора спросили:
– Батюшка, что с жидами нужно делать?
Илиодор не колебался ни секунды:
– На виселицу их!
Большой был, в общем, демократ и человеколюб.
Из Царицына он был выслан вторично – не оправдал доверия царя и прихожан, некоторое время сидел в монастыре, замаливал грехи, потом Илиодора сослали во Флорищеву пустынь. У Илиодора, как и у Распутина, были свои последователи, поклонницы и поклонники, богомольцы, хранившие книги Илиодора, его одежду, а иногда и вовсе какой-нибудь жалкий лоскуток – остаток его одежды, карман либо часть воротника, и к этим людям нельзя было относиться легковесно, с улыбкой, абы как эти люди могли пойти на все, даже на убийство, если кто-то вздумал бы обидеть их избранника.
Поскольку было непонятно, чем больше увлекался Илиодор – революционными делами или богослужением, полиция на всякий случай причислила его к разряду тихих бунтовщиков и установила наблюдение.
Жил Илиодор в сухой келье, состоявшей из двух половин, одна половина была мирская, другая духовная. Пахло в келье землей и пауками, и сколько Илиодор ни подкладывал пахучей травы, сколько ни пристраивал на стенах мелиссы и злого, ядреного чабреца, духа этого никак не мог изгнать из кельи, дух давил, мутил голову, и сосланный в пустынь Илиодор мечтал о свободе, о Боге, о поклонниках, о собственном монастыре.
Людей к себе в келью Илиодор не пускал – даже послушника, который приносил миски с едой и питьем, и того держал на пороге, лишь приотворял малость дверь, и послушник ставил посуду на пол, затем, недобро поджимая губы – слишком уж нелюдимо живет монах, – забирал грязные миски и уходил.
Но свобода манила Илиодора, ой как манила. По ночам он до крови кусал губы, желая полной грудью вдохнуть сладкого воздуха свободы, ворочался, потом, запалив свечу, гонял по стенам клопов и думал о том, что надо бы на зиму запастись чернобыльником либо серебристой полынью, и полынь и чернобыльник своим духом распугают всех клопов.
Случалось, Илиодор в отчаянии выходил из себя – с силой бил кулаком об пол, потом тер его – ушибленное место долго болело – и удрученно шептал:
– Ну, Гришка, ну, мразь! Ты еще пожалеешь, что так со мною поступил. Погоди! Погоди-и-и. Ошибочку ты сделал, что со мною так… Отольются тебе мои слезы!
Он ненавидел Распутина, придумывал разные планы мести, но отомстить пока не мог: Распутин в схватке взял верх, подмял всех под себя, загнал Гермогена с Илиодором в Тмутаракань, в кельи, а сам остался на свободе. Для того чтобы отомстить Распутину, нужна была свобода.
– Ну, мразь! – вздыхал по ночам Илиодор. – Ну, Гришка! Будет и на нашей улице праздник!
Однажды, в первых числах мая, филеры, присматривавшие за пустынью, за Илиодором, по поводу которого получили прямое распоряжение министра внутренних дел не церемониться и, если что, цеплять на запястье наручники, заметили, что около монастырских стен бродит какой-то странный человек и делает замеры. Чаще всего человек останавливался напротив окон Илиодоровой кельи.
– Выпустите нас отсюда! – заорали они сразу в несколько глоток.
Стражники, сидящие на крыльце, забеспокоились – им тоже стало что-то не по себе: крыльцо начало скрипеть, шататься, словно при землетрясении, горизонт накренился и так, в накрененном состоянии, и застыл – у нечистой силы был суровый характер, она не любила шутить.
– Смерть Хвеонии Гусевой! – прокричал кто-то в пустой избе – один из девяти арестованных, похоже, сошел с ума
– Разве так можно? – прошептал кто-то из охранников. – А что скажет господин полицейский исправник?
На допросе Феония Гусева упрямо молчала – стиснув зубы, прижав ладонь ко рту, она лишь мотала головой, отказываясь отвечать. Когда с нее стянули шаль, то люди, которые вели допрос, отшатнулись от Феонии – лицо ее было сплошь покрыто болячками, какими-то детскими, золотушными болячками, коростой, на носу тоже сидела большая золотушная блямба.
Следователь с брезгливой миной на лице бросил шаль на пол. Феония спокойно нагнулась, подняла шаль и натянула себе на голову:
– Сейчас я в тебя плюну. – У Феонии неожиданно прорезался сильный, звучный голос. – До конца дней своих будешь лечиться!
Следователь поспешно отодвинулся от Феонии, стал задавать вопросы из угла избы. Феония молчала, она словно бы не слышала вопросов, словно бы не понимала следователя, словно бы не разумела русскую речь, хотя только что говорила, грозила юному, с щегольскими усиками, будто приклеенными к бровастому щекастому лицу, следователю – ведь она действительно могла плюнуть в офицера какой-нибудь заразой, слюной, кишащей микробами, и тогда офицерик этот свое бы имение спустил на лекарства.
Чем была больна Феония, следователь не знал, но на всякий случай старался держаться от нее подальше. И правильно делал. Пощипывая усики, он записал для себя на листе бумаги кое-какие наблюдения – что-то вроде заметок на память…
«Проверить, сколько ей лет. Наверное, около тридцати. Может, чуть больше. Незагорелая кожа, болячки – очень странные болячки. Платье простое, черного монашеского цвета, но под простым этим платьем – очень дорогое белье, которое простолюдины не носят. Отказывается есть и пить – ничего не хочет брать в рот!» Следователь был грешен – пописывал стишки и стремился, чтобы из-под его пера выходили только грамотные тексты, и главное – чтобы они были живыми, поскольку мертвая полицейская сухомятина уже всем надоела смертельно. Скулы от нее сводит.
Поздно вечером Феония все-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов – всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он – антихрист!»
Когда ее увели на ночь в камеру, – если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, – это было мрачное деревянное, темное, пахнущее сеном и мышами помещение, – она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно – бить стекло.
Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло – то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась – звук разбитого стекла мог привлечь стражников.
Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и темным – в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать – в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, – но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нем снова начал шуметь-волноваться народ.
Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодежь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву – в воздухе противно попахивало кровью, пеплом, лекарствами, болью.
Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок, Феония поспешно выдернула ею, прислушалась, стараясь понять, услышал ее стражник или нет?
Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то – все смешалось, а нечеткий звон разбитого стекла охранник все же услышал – у него оказался тонкий слух, – затопал ногами, забряцал тяжелым замком, и Феония, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по ее мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.
Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.
– Эй! – позвал он.
Керосиновым фонарем осветил лежавшую на полу Феонию.
Человек он был опытный, все сразу понял, позвал напарника, вдвоем они не дали Феонии умереть. Отняли у нее осколок, который она намертво зажала в ладони, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики – чтоб и впредь было неповадно – основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать ей руки, но не стали.
А Распутин все продолжал хрипеть в своем доме – он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей – маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными – стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас – Распутин и ее выдержит.
Почти все запросы о Феонии были пустые, у полиции сведений на нее имелось мало – она не проходила ни по одному делу.
В тот же день полиция стала искать одного журналиста, который ехал вместе с Распутиным в поезде, – о нем сообщили дамы из свиты «старца». Кстати, по поводу распутинских дам полиция получила приказ: собрать всех в одну кошелку, доставить в Тюмень и посадить в поезд, идущий в Санкт-Петербург, – нечего им шуршать юбками в Покровском! Допрашивать дам полиция опасалась – слишком уж высокие семьи они представляли, всей России были известны их фамилии.
Утром бледная, как мел, после бессонной ночи и переживаний, перевязанная обрывками бинтов, Феония призналась дотошному молодому следователю, что действовала она по указке Илиодора, а еще мстила за поруганную Распутиным подругу – монахиню Ксению. Несколько месяцев она следила за Распутиным, раньше держала при себе сапожный нож, но в Ялте ей подвернулся тесак, она его купила и хотела там же, в Ялте, расправиться со «старцем», но ей ни разу не удалось приблизиться к нему: Распутин все время находился в окружении людей, в Петербурге тоже не удалось, и тогда она приехала следом за ним в Покровское.
Наконец Распутину сделали операцию, почистили кишечник, заштопали несколько порезов, осмотрели и подлечили мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Но Распутин пока не приходил в себя. Через день температура пошла на убыль. Это был хороший знак.
Судьба Илиодора сложилась неудачно, вроде бы он был на коне – вместе с Гермогеном брал верх над Распутиным, но нет – Распутин рассчитал позицию куда вернее, чем они с Гермогеном, и сумел обезножить коня, на котором они скакали. Илиодор впал в немилость. Вообще, фигура Илиодора представляет интерес для всякого пытливого человека. В архиве сохранилось несколько папок Департамента полиции с пометками «Бывший иеромонах Илиодор». В молодости он баловался революционной деятельностью – именно баловался, хотя сам относился к этому очень серьезно и, несмотря на монашеский постриг и отвращение к оружию, пробовал даже стрелять из тяжелого, намертво отшибающего руку револьвера, учился разбирать и собирать мосинскую винтовку-трехлинейку, был знаком с устройством самодельной бомбы.
«Иеромонах Почаевской лавры Илиодор в начале 1908 года ввиду несоответствия проповеднической деятельности был переведен по распоряжению духовного начальства на жительство в город Царицын, – следовало из полицейского досье, – а затем ввиду неисправимости и обострившихся на этой почве отношений с гражданскими властями – переведен из Саратовской епархии в Минскую».
Но жители Царицына обратились к государю-императору, и тот 3 апреля написал на прошении: «Жалея духовных детей иеромонаха Илиодора, разрешаю ему возвратиться в Царицын на испытание, и в последний раз».
Из досье следовало, что 5 ноября 1909 года Илиодор произнес проповедь, в которой говорил об угнетении богатыми неимущего класса. Предупреждение, сделанное полицией, на иеромонаха не подействовало: революционная борьба была для него как сладостная чесотка – чем больше чешешь, тем лучше. Он считал себя привязанным к революции на всю жизнь. 29 ноября 1909 года Илиодор выехал из Царицына в Тобольск, 21 декабря вернулся. После приезда из Сибири выступал перед рабочими с зажигательными речами, о чем существуют рапорты начальника жандармского управления и саратовского губернатора графа Татищева российскому премьеру П.А. Столыпину.
На бумагах той поры стояли грифы «доверительно», «секретно» и «конфиденциально». Из бумаги под грифом «доверительно» следовало, что у Илиодора был «громкий, крикливый, немного режущий ухо голос с нервною хрипотой. Черная ряса, такой же клобук, бледное, худое, изможденное лицо с небольшою черной внушительной бородой».
Чтобы понять этого «революционера», его надо процитировать – и тогда все встанет на места… В одной из проповедей в Царицыне, записанной полицейским агентом, Илиодор, например, говорил:
– Попал я в Почаев. Там – хохлы, народ тоже крепкий, сильный, в плечах косая сажень, кулак вот какой! – Надо полагать, хилый Илиодор пудовым кулаком похвастаться не мог, поэтому он сложил вместе два своих кулака, добавил к ним для увесистости еще что-то и показал народу. – Стал с ними, с хохлами, значит, беседовать. Когда они узнали, что такое конституция и революция, глаза у них налились кровью. Подняли они кулаки и говорят мне: «Скажи, батюшка, где эта самая конституция находится? Мы ее так пришибем, что только мокренько останется!»
– В Петербурге! – сказал хохлам Илиодор. Те даже взвыли от ненависти к столице России.
На той же показательной проповеди Илиодора спросили:
– Батюшка, что с жидами нужно делать?
Илиодор не колебался ни секунды:
– На виселицу их!
Большой был, в общем, демократ и человеколюб.
Из Царицына он был выслан вторично – не оправдал доверия царя и прихожан, некоторое время сидел в монастыре, замаливал грехи, потом Илиодора сослали во Флорищеву пустынь. У Илиодора, как и у Распутина, были свои последователи, поклонницы и поклонники, богомольцы, хранившие книги Илиодора, его одежду, а иногда и вовсе какой-нибудь жалкий лоскуток – остаток его одежды, карман либо часть воротника, и к этим людям нельзя было относиться легковесно, с улыбкой, абы как эти люди могли пойти на все, даже на убийство, если кто-то вздумал бы обидеть их избранника.
Поскольку было непонятно, чем больше увлекался Илиодор – революционными делами или богослужением, полиция на всякий случай причислила его к разряду тихих бунтовщиков и установила наблюдение.
Жил Илиодор в сухой келье, состоявшей из двух половин, одна половина была мирская, другая духовная. Пахло в келье землей и пауками, и сколько Илиодор ни подкладывал пахучей травы, сколько ни пристраивал на стенах мелиссы и злого, ядреного чабреца, духа этого никак не мог изгнать из кельи, дух давил, мутил голову, и сосланный в пустынь Илиодор мечтал о свободе, о Боге, о поклонниках, о собственном монастыре.
Людей к себе в келью Илиодор не пускал – даже послушника, который приносил миски с едой и питьем, и того держал на пороге, лишь приотворял малость дверь, и послушник ставил посуду на пол, затем, недобро поджимая губы – слишком уж нелюдимо живет монах, – забирал грязные миски и уходил.
Но свобода манила Илиодора, ой как манила. По ночам он до крови кусал губы, желая полной грудью вдохнуть сладкого воздуха свободы, ворочался, потом, запалив свечу, гонял по стенам клопов и думал о том, что надо бы на зиму запастись чернобыльником либо серебристой полынью, и полынь и чернобыльник своим духом распугают всех клопов.
Случалось, Илиодор в отчаянии выходил из себя – с силой бил кулаком об пол, потом тер его – ушибленное место долго болело – и удрученно шептал:
– Ну, Гришка, ну, мразь! Ты еще пожалеешь, что так со мною поступил. Погоди! Погоди-и-и. Ошибочку ты сделал, что со мною так… Отольются тебе мои слезы!
Он ненавидел Распутина, придумывал разные планы мести, но отомстить пока не мог: Распутин в схватке взял верх, подмял всех под себя, загнал Гермогена с Илиодором в Тмутаракань, в кельи, а сам остался на свободе. Для того чтобы отомстить Распутину, нужна была свобода.
– Ну, мразь! – вздыхал по ночам Илиодор. – Ну, Гришка! Будет и на нашей улице праздник!
Однажды, в первых числах мая, филеры, присматривавшие за пустынью, за Илиодором, по поводу которого получили прямое распоряжение министра внутренних дел не церемониться и, если что, цеплять на запястье наручники, заметили, что около монастырских стен бродит какой-то странный человек и делает замеры. Чаще всего человек останавливался напротив окон Илиодоровой кельи.