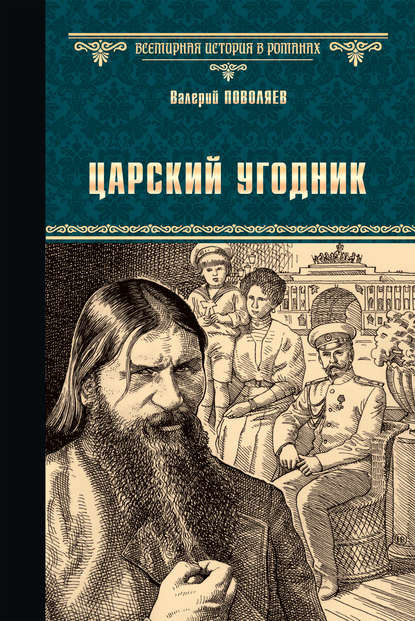По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Царский угодник
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но зато интересно! – Распутин встал, пальцами ухватил еще пару кусков телятины, сложил их на манер блина, сунул в рот. – Ладно, пойду узнаю, чего надо односельцам.
Улица ослепила его светом – солнце старалось вовсю, земля парила, было душно, как перед грозой, река затянута зыбкой кисеей, на теплых стенах домов сидели оводы и мухи. С мужиками, распустив мокрые губы, беседовал Митька – сын, старший среди распутинских детей.
– Здорово, мужики! – Распутин спустился с крыльца, пошел по кругу, пожимая руки.
– Здорово, коль не шутишь, Григорий Ефимов! Давненько у нас не был!
– Ну уж и давненько! Весною, в марте, был. – Распутин сощурился – на ярком солнце все цвета поблекли, попрозрачнели, теней не стало, они исчезли, из глаз покатились слезы. – Ну и солнце! – Распутин покрутил головой. – Как в этой самой… в Африке!
Земля просохла, на улице поднимались рыжие столбики пыли – с реки приносился ветер, играл, гонял кур, задирал хвосты бычкам, и те ошалело таращили глаза, не понимая, что за невидимая сила крутит им репки. В воздухе металось что-то хмельное, веселое, пахло праздником, хотя никаких праздников в ближайшие дни вроде бы не предвиделось. Распутин угадал – мужики беспокоили его насчет новой пристани, да еще хотели, чтобы Гришка их походатайствовал насчет парохода – слишком редко пароход останавливается в Покровском, даже обидно, ведь Покровское – село большое, старое, уважаемое. В общем, Григорию Ефимовичу надо переговорить с дирекцией Западно-Сибирской пароходной компании…
– Ладно, переговорю, – пообещал Распутин, – чего для односельцев не сделаешь! А то вон со мною бабешки столичные приехали, пальцем сопли вытирать не приспособленные, так их со сходни чуть ветром не посшибало, только голубые панталоны мелькали… Хорошо, внизу матрос ловил. И еще хорошо, что паренек крепким оказался, не то бы быть беде.
– Парень тот наш был, из двора Малофеевых, бедовый… Баб, как и ты… – Говоривший посмотрел на Григория, обтер рукою рот. – Сказывают, что так! Мишкой парня зовут.
– Не признал, – сказал Распутин, – видать, стар стал. Хотя все работает пока, как у молодого, – и то, что выше пояса, и то, что ниже…
– Да он тебе все равно незнаком, Григорий Ефимов, Малофеевы из приезжих, не коренные.
Здесь, в Покровском, Распутин чувствовал себя не то что в Петербурге, тут он был среди своих, тут он отдыхал – телом отдыхал, душой, головой, сердцем, кровью своей, тут он восстанавливался, а Петербург, он сжигает человека, нервы становятся прелыми, гниль одна, а не нервы, от Петербурга и от беспокойства тамошнего у Распутина даже зубы начали сыпаться.
И спать в Питере перестал – прикорнет малость, забудется, но это только до первого сна, как только увидит первый сон, лицо какое-нибудь знакомое – сон сразу уносится прочь, будто ветер, который задирает хвосты бычкам, и приходится вставать.
Случалось, Распутин всю ночь блуждал по комнатам а кальсонах, шлепал босыми ногами по полу, разговаривал сам с собою, смеялся и потом ловил себя на том, что разговаривает с тенями, хохочет невесть отчего, хотя надо бы не хохотать, а плакать. Нет, правильно он решил – из Петербурга вон! Надо бежать на волю, на природу, на землю, в сирень и смородиновые кусты. Добили журналисты, добили просители, добили враги. Пуришкевич, Горемыкин, великие князья, Илиодорка… Тьфу, и этот в голову лезет, ни дна ему, ни покрышки! Илиодорка спекся, хотя и пробует поднять голову – говорит, что пишет книгу, про него пишет, про Распутина, ну, пусть себе пишет в своей ссылке, в глуши!
Вспомнив Илиодора, Распутин помрачнел, покрутил с досадой головой и, чтобы хоть как-то развеяться, сказал:
– Ладно, мужики, пойдем на берег, еще раз посмотрим, что мы имеем с гуся.
Громкоголосой шеренгой, задерживаясь около ям и выгоняя оттуда кур с поросятами, двинулись к реке.
– А ведь признайся, Ефимыч, скучаешь по нашим местам? – спросил один из мужиков, глазастый, прозорливый – он как в точку попал.
Распутину сделалось неприятно – не хотелось признаваться, что тянет сюда, – слишком велика честь для здешних мужиков.
– Нет, не скучаю, – сказал он, – некогда!
– И во сне Покровское не видишь?
– Не вижу. Некогда, я же говорю! Да и сны что-то перестал видеть, – соврал Распутин. – Стар сделался. Старость – не радость!
– Не прибедняйся! Друзьяки в столице есть?
– Без них никак нельзя.
– Небось все больше по дамской части?
– И это есть!
В конце улицы показалась одинокая женщина, одетая в черное, закутанная в платок. Распутин сощурился:
– Кто это?
– Приезжая одна. То ли побирушка, то ли больная, а может, монашенка. Молится и рыбий жир пьет. Доктора ей рыбий жир прописали.
– А чем болеет?
– Не говорит.
– Зовут как?
– Черт ее знает! Баба! Баба, она и есть баба! Так ее и зови – баба! Не ошибешься!
– Баба бабе рознь, – назидательно произнес Распутин, – это я хорошо знаю.
У него снова потемнело, сделалось узким, длинным лицо, борода встопорщилась неопрятной метлой, грудь опала, шаг сделался медленным – опять почему-то вспомнился Илиодорка, ни дна ему, ни покрышки! Под Распутиным качнулась, поползла в сторону яркая земля, перевернулись вверх ногами деревенские бычки, и здоровенная, с отвислым животом свинья, задумчиво разглядывавшая себя в луже, перевернулась, но не пролилась плоская блестящая река. Распутин ухватился за плечи двух мужиков, идущих рядом, чтобы не споткнуться, не упасть, и глухо выругался.
– Ты чего, Ефимыч?
– Одну погань вспомнил. Мужики дружно засмеялись.
– Нашел о чем вспоминать! Ты лучше нас почаще вспоминай, да новую пристань, которая нам позарез нужна, – и тебе и нам лучше будет.
– И газетчики – мразь! – подумав о Ванечке Манасевиче, сказал Распутин, потом вспомнил приятного сероглазого господина, ехавшего с ним в одном вагоне, и угрюмо добавил: – Не все!
Мужики снова засмеялись.
– Ты, Григорий Ефимов, так чокнешься! За тобой глаз нужен. Больно нервенный стал!
…В день отъезда Распутин за обедом сказал Лапшинской:
– Знаешь, на всех этих писак я плевал с высоты самого большого телеграфного столба в России!
Лапшинская согласно кивнула в ответ, хотя про себя не была согласна с Распутиным – не плевал он на журналистов и никогда не сможет плевать, поскольку знает: не он их, а они его заплюют. У них силы больше. Да и натура у Распутина не такая – всякое худое слово оставляет в его душе дырку. Несколько месяцев назад он велел Лапшинской собирать все газетные вырезки – даже совсем маленькие, в две строчки заметульки, наклеивать их на бумагу и держать в отдельном месте.
Когда у Распутина выпадало свободное время, он садился в кресло, вытягивая ноги, закрывал глаза и приказывал Лапшинской:
– Читай!
Лапшинская читала ему заметки, а Распутин, внимая голосу, шевелил губами, словно бы повторяя за ней текст. Иногда, останавливая, просил:
– Перечитай еще раз!
Либо недовольно говорил:
– А эту заметку изыми! В ту ее папку.
«В ту ее папку!» – означало переместить материал в папку с неприятными вырезками, где Распутина ругали. К ней Распутин прикасался редко, требовал, чтобы Лапшинская прятала ее подальше, – папка одним только своим видом портила «старцу» настроение.
Улица ослепила его светом – солнце старалось вовсю, земля парила, было душно, как перед грозой, река затянута зыбкой кисеей, на теплых стенах домов сидели оводы и мухи. С мужиками, распустив мокрые губы, беседовал Митька – сын, старший среди распутинских детей.
– Здорово, мужики! – Распутин спустился с крыльца, пошел по кругу, пожимая руки.
– Здорово, коль не шутишь, Григорий Ефимов! Давненько у нас не был!
– Ну уж и давненько! Весною, в марте, был. – Распутин сощурился – на ярком солнце все цвета поблекли, попрозрачнели, теней не стало, они исчезли, из глаз покатились слезы. – Ну и солнце! – Распутин покрутил головой. – Как в этой самой… в Африке!
Земля просохла, на улице поднимались рыжие столбики пыли – с реки приносился ветер, играл, гонял кур, задирал хвосты бычкам, и те ошалело таращили глаза, не понимая, что за невидимая сила крутит им репки. В воздухе металось что-то хмельное, веселое, пахло праздником, хотя никаких праздников в ближайшие дни вроде бы не предвиделось. Распутин угадал – мужики беспокоили его насчет новой пристани, да еще хотели, чтобы Гришка их походатайствовал насчет парохода – слишком редко пароход останавливается в Покровском, даже обидно, ведь Покровское – село большое, старое, уважаемое. В общем, Григорию Ефимовичу надо переговорить с дирекцией Западно-Сибирской пароходной компании…
– Ладно, переговорю, – пообещал Распутин, – чего для односельцев не сделаешь! А то вон со мною бабешки столичные приехали, пальцем сопли вытирать не приспособленные, так их со сходни чуть ветром не посшибало, только голубые панталоны мелькали… Хорошо, внизу матрос ловил. И еще хорошо, что паренек крепким оказался, не то бы быть беде.
– Парень тот наш был, из двора Малофеевых, бедовый… Баб, как и ты… – Говоривший посмотрел на Григория, обтер рукою рот. – Сказывают, что так! Мишкой парня зовут.
– Не признал, – сказал Распутин, – видать, стар стал. Хотя все работает пока, как у молодого, – и то, что выше пояса, и то, что ниже…
– Да он тебе все равно незнаком, Григорий Ефимов, Малофеевы из приезжих, не коренные.
Здесь, в Покровском, Распутин чувствовал себя не то что в Петербурге, тут он был среди своих, тут он отдыхал – телом отдыхал, душой, головой, сердцем, кровью своей, тут он восстанавливался, а Петербург, он сжигает человека, нервы становятся прелыми, гниль одна, а не нервы, от Петербурга и от беспокойства тамошнего у Распутина даже зубы начали сыпаться.
И спать в Питере перестал – прикорнет малость, забудется, но это только до первого сна, как только увидит первый сон, лицо какое-нибудь знакомое – сон сразу уносится прочь, будто ветер, который задирает хвосты бычкам, и приходится вставать.
Случалось, Распутин всю ночь блуждал по комнатам а кальсонах, шлепал босыми ногами по полу, разговаривал сам с собою, смеялся и потом ловил себя на том, что разговаривает с тенями, хохочет невесть отчего, хотя надо бы не хохотать, а плакать. Нет, правильно он решил – из Петербурга вон! Надо бежать на волю, на природу, на землю, в сирень и смородиновые кусты. Добили журналисты, добили просители, добили враги. Пуришкевич, Горемыкин, великие князья, Илиодорка… Тьфу, и этот в голову лезет, ни дна ему, ни покрышки! Илиодорка спекся, хотя и пробует поднять голову – говорит, что пишет книгу, про него пишет, про Распутина, ну, пусть себе пишет в своей ссылке, в глуши!
Вспомнив Илиодора, Распутин помрачнел, покрутил с досадой головой и, чтобы хоть как-то развеяться, сказал:
– Ладно, мужики, пойдем на берег, еще раз посмотрим, что мы имеем с гуся.
Громкоголосой шеренгой, задерживаясь около ям и выгоняя оттуда кур с поросятами, двинулись к реке.
– А ведь признайся, Ефимыч, скучаешь по нашим местам? – спросил один из мужиков, глазастый, прозорливый – он как в точку попал.
Распутину сделалось неприятно – не хотелось признаваться, что тянет сюда, – слишком велика честь для здешних мужиков.
– Нет, не скучаю, – сказал он, – некогда!
– И во сне Покровское не видишь?
– Не вижу. Некогда, я же говорю! Да и сны что-то перестал видеть, – соврал Распутин. – Стар сделался. Старость – не радость!
– Не прибедняйся! Друзьяки в столице есть?
– Без них никак нельзя.
– Небось все больше по дамской части?
– И это есть!
В конце улицы показалась одинокая женщина, одетая в черное, закутанная в платок. Распутин сощурился:
– Кто это?
– Приезжая одна. То ли побирушка, то ли больная, а может, монашенка. Молится и рыбий жир пьет. Доктора ей рыбий жир прописали.
– А чем болеет?
– Не говорит.
– Зовут как?
– Черт ее знает! Баба! Баба, она и есть баба! Так ее и зови – баба! Не ошибешься!
– Баба бабе рознь, – назидательно произнес Распутин, – это я хорошо знаю.
У него снова потемнело, сделалось узким, длинным лицо, борода встопорщилась неопрятной метлой, грудь опала, шаг сделался медленным – опять почему-то вспомнился Илиодорка, ни дна ему, ни покрышки! Под Распутиным качнулась, поползла в сторону яркая земля, перевернулись вверх ногами деревенские бычки, и здоровенная, с отвислым животом свинья, задумчиво разглядывавшая себя в луже, перевернулась, но не пролилась плоская блестящая река. Распутин ухватился за плечи двух мужиков, идущих рядом, чтобы не споткнуться, не упасть, и глухо выругался.
– Ты чего, Ефимыч?
– Одну погань вспомнил. Мужики дружно засмеялись.
– Нашел о чем вспоминать! Ты лучше нас почаще вспоминай, да новую пристань, которая нам позарез нужна, – и тебе и нам лучше будет.
– И газетчики – мразь! – подумав о Ванечке Манасевиче, сказал Распутин, потом вспомнил приятного сероглазого господина, ехавшего с ним в одном вагоне, и угрюмо добавил: – Не все!
Мужики снова засмеялись.
– Ты, Григорий Ефимов, так чокнешься! За тобой глаз нужен. Больно нервенный стал!
…В день отъезда Распутин за обедом сказал Лапшинской:
– Знаешь, на всех этих писак я плевал с высоты самого большого телеграфного столба в России!
Лапшинская согласно кивнула в ответ, хотя про себя не была согласна с Распутиным – не плевал он на журналистов и никогда не сможет плевать, поскольку знает: не он их, а они его заплюют. У них силы больше. Да и натура у Распутина не такая – всякое худое слово оставляет в его душе дырку. Несколько месяцев назад он велел Лапшинской собирать все газетные вырезки – даже совсем маленькие, в две строчки заметульки, наклеивать их на бумагу и держать в отдельном месте.
Когда у Распутина выпадало свободное время, он садился в кресло, вытягивая ноги, закрывал глаза и приказывал Лапшинской:
– Читай!
Лапшинская читала ему заметки, а Распутин, внимая голосу, шевелил губами, словно бы повторяя за ней текст. Иногда, останавливая, просил:
– Перечитай еще раз!
Либо недовольно говорил:
– А эту заметку изыми! В ту ее папку.
«В ту ее папку!» – означало переместить материал в папку с неприятными вырезками, где Распутина ругали. К ней Распутин прикасался редко, требовал, чтобы Лапшинская прятала ее подальше, – папка одним только своим видом портила «старцу» настроение.