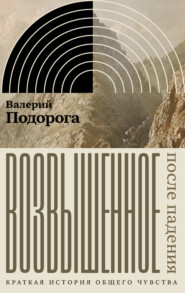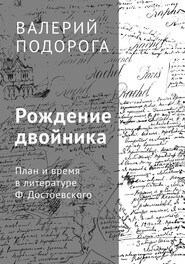По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Nature Morte. Строй произведения и литература Н. Гоголя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
6. И вот наступает момент перехода от полного времени вещи во время распада. Собственно, распада еще нет, но его время пришло, повторяю, еще есть какая-то жизнь, правда, она чуть теплится, она на исходе, но все-таки есть. «Голландский натюрморт – это некий порядок, начавший разваливаться, это нечто, переживающее испытание временем. И если часов, которые у Класа часто лежат на краю блюда и циферблату которых подражает разрезанный лимон, недостаточно, чтобы мы это уразумели, то как не угадать в свисающей лимонной кожуре ослабшую пружину времени, – а выше витая перламутровая раковина являет нам ту же пружину, но тугую, заведенную вновь, а рядом вино в кубке создает ощущение вечности. Некий порядок, начавший разваливаться…»[4 - Клодель П. Глаз слушает. Харьков: Фолио, 1995. С. 49.]. Однако почему мы приписываем символическое значение отдельному предмету, чье место в порядке изображения, казалось, должно этому препятствовать? Ответ: из-за многочисленных повторений того же «лимона» практически у всех голландцев, писавших в бытовом жанре. Возьмем того же Питера Класа (о котором упоминает, например, П. Клодель), да еще трех других художников: Виллема Клас Хеда, Ян Янс Трека или прекрасное полотно «Натюрморт с часами» Абрахама ван Бейерена, а также прибавим «Десерт» Виллема Калфа. Действительно, может сложиться стойкое впечатление, что «лимон» играет значительную роль в символике «конца времени», в опыте vanitas (выраженном в меланхолическом лозунге Экклезиаста: «Все суета сует»). На самом деле, достаточно присмотреться к организации переднего плана в голландском натюрморте, чтобы заметить: почти каждая вещь там обладает приблизительно той же символической функцией, что и все другие, единой функцией незаконченной завершенности…[5 - Фехнер Е. Ю. Голландский натюрморт XVII века. М.: Изобразительное искусство, 1981. См. также подборку «голландцев» из Эрмитажа: Голландская живопись в музеях Советского Союза. Л.: Аврора-Ленинград, 1984. С. 273.]Время исполняется, оставаясь незавершенным. Здесь есть правда зрителя, которому не дано узреть то, что поглотит и его, но дано увидеть краешек этого великого Ничто.
Миг
7. Одно ясно: что-то завершилось, уточню, – почти, но не совсем (как будто завершились: «ужин», «завтрак», «охота», «рыбная ловля» и пр.). Как нам осмыслить это «почти»? А ведь это нужно сделать, если мы хотим понять природу времени, конституирующую организацию внутреннего пространства в натюрморте. «Почти» – это некий миг, или миг, предшествующий катастрофе, – весь мир на грани падения. Еще мгновение… и все будет кончено, но это мгновение не прекращает длиться. Рыба еще бьется, заяц может вдруг вскочить и снова бежать (во всяком случае, ни на одной из картин я не заметил какого-то решающего различия, например, между изображениями живой собаки и мертвого зайца, глаза этих существ, что удивительно, выражали одну и ту же печаль). Фрукты настолько свежи и кажутся зрелыми, как и ягоды, я уже не говорю о цветах или овощах… Все еще не отделено от жизни, и будто застыло в легком обмороке, предвкушая собственную смерть. Иногда полагают, что стоит отказаться от термина «мертвая природа», что будто бы в этом определении есть оценочный элемент, и что лучше говорить о «тихой жизни» (Stilleben), едва заметной, скромной, уходящей, неслышимой… Ведь предметом изображения является и все живое: люди, птицы, насекомые, домашние животные. На самом же деле различие между живым/мертвым в натюрморте проходит не по правилам аристотелевского мимесиса. Разве дело в правдоподобии того и другого? Метафизическая матрица натюрморта не опирается на столь ограниченные и случайные критерии. Да и «тихая жизнь» мало что говорит нам. Ведь основные критерии метафизики жанра заключены в принципе организации самих предметов. Скорее речь идет не о мертвой природе, а об искусственной, а точнее, о переходе от естественного к искусственному. Вещи как артефакты; именно благодаря тому, что вещь освободилась от прежних условий, навязываемых ей традиционными правилами воспроизведения. Натюрморт – это искусственная природа, «прирученная», «собранная и представленная в одном месте», доступ куда определяется как раз отказом от естественных свойств, от той культовой ауры жизнеподобия, которую исследовал В. Беньямин. Например, попугай-какаду, устроившийся на удивительной по изяществу раковине, несовместим с последней, и тем не менее в этом месте на полотне художника они не только совместимы, но и о чем-то нам сообща говорят… Другими словами, то, что попугай или насекомое или еще какое-нибудь существо кажутся живыми, вовсе ничего не значит по сравнению с тем фактом, что естественная жизнь более невозможна. Жить же можно только жизнью искусственной, или переходной. Все живые притворяются мертвыми, так и те, кто на самом деле мертвы, кажутся живыми. Однако о смерти пока нельзя говорить, смерть – это то, что еще наступит, а не то, что наступило. И здесь вся двойственность натюрморта, и она постоянно повторяется, поскольку нет никакой уверенности в том, что время завершено. Конечно, есть привычная точка зрения, вполне понятная: время закончилось, и теперь можно взять вещь в ее полной неподвижности, даже не просто как неподвижную, а как мертвую. Натюрморт как будто становится возможным, когда время в нем признано завершенным. Но как быть со временем транзитивным и временем распада, ведь они не совпадают? Художник не выводит натюрморт за масштаб этих измерений времени. Время натюрморта – до-и-после-время, отсчет идет от виртуальной черты мертвого, которая разделяет два времени (вечности) и не позволяет им смешиваться, и промежуток этот занят почти-временем. Невозможно возвращение к жизни, но и время распада еще не пришло, на этой черте и балансирует натюрморт. Внутреннее время вещи может быть описано как неустойчивое колеблющееся «почти», пластически же оно представлено как застывшее миг-время, что-то вот-вот упадет, но не падает, что-то должно закончиться, но не заканчивается…и вот это, что не то и не другое, и есть место вне жизни и смерти.
8. Пейзажное видение иное: оно упирается в боковину (торец) вечности, пассивно созерцаемой, ничем не ограниченной, кроме как бесконечной линией горизонта. Поэтому всякий миг созерцания окунается в неподвижное время, и оттуда ему уже не выйти.
9. Как мы видим, мертвая природа, nature morte – чисто условное понятие, его нельзя толковать как собрание «мертвых» вещей без человека. Надо учитывать его постоянное присутствие, ибо часто он выступает скрытой причиной организации или дезорганизации ближайшего к нам пространства. Серия «ученых» натюрмортов и важна тем, что она обнаруживает неизменное место наблюдателя. Натюрморт автобиографичен, это тот же портрет вещи, повернутый наиболее пластически ясной стороной для зрителя. Основные элементы жанра: природа, вещь, лицо. И повсюду одна и та же живописная техника. Вот почему преобразование по линии портрет-пейзаж-натюрморт всегда возможно, и оно идет: медленно гаснет дневной свет, на передний план из дальнего светового бесконечного, как бы пронзая всю широту воздушных масс фона, выдвигаются разные предметы: одни растут, другие уменьшаются в размерах; видящий становится истинным демиургом, тем, кто получает их в собственность, кто может ими оперировать, как ему заблагорассудится, и они окружают его со всех сторон… Наконец, появляется круглое голландское зеркало, – образ идеальной вещи, «внутреннего глаза», транскрипция глаза наблюдающего. Зеркало – подлинный портрет вещи, оно способно принять в себя весь мир, предельно сжать его, превратив в барочную обманку.
Куча всего. Загроможденность, тяжесть и падение
10. Что же происходит с вещами? Действительно, не превращаются ли они в небрежно собранную кучу, а иногда просто в ком, как только мы утрачиваем представление о том, что их разъединяет? В таком случае, мы уже не в силах ощутить особенности бытия, и ощущаем только материю, которая наделяет разные вещи общими свойствами. Какое собрание вещей можно назвать натюрмортом? – как видно, этот вопрос остается открытым. Если мертвая вещь – это уже не вещь с особыми свойствами, переданными ей человеческой рукой, а только фрагмент распадающейся материи, – старье, ветошь, куча всего ненужного и уже использованного. Отсутствие пустот между вещами, образующими собрание, лишает вещи их прежней физиогномики; они слипаются, ибо силы, их объединяющие, намного мощнее тех, что поддерживали разъединение. Материя еще не ком, но уже нечто скомканное, сбитое, сплюснутое: «…объектами натюрморта теперь только и являются, что складки. Рецепт барочного натюрморта таков: драпировка, образованная складками воздуха или тяжелых облаков; скатерть со складками изображенных на ней морей или рек; горящие огненными складками золотые или серебряные изделия; овощи, грибы или засахаренные фрукты, схваченные в ракурсе земных складок. Картина наполняется складками до такой степени, что кажется шизофренической “чушью”; мы не можем развернуть эти складки, не превращая их в бесконечные и не извлекая из них духовный урок. Нам кажется, что это устремление покрыть складками все полотно стало характерным и для современного искусства, творящего складки “all-over”»[6 - Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998. C. 212–213.]. Но так ли это на самом деле? Ведь то, с чем мы здесь сталкиваемся, заставляет говорить нас об одном способе представлять пространство – это его заполнять. Вот что стоит подчеркнуть: пространство заполняется, чтобы стать собой (заполняется, если угодно, «под завязку»). Хотя я вполне допускаю, что, «старея» и разлагаясь, вещи соединяются при полной пассивности бытия, тогда утрата ими пространственности неизбежна. Время тогда полностью побеждает форму, уродует, смешивает… но не в натюрморте.
11. Другой аспект. Конечно, не стоит забывать, что вещи имеют свою размерность, плотность, непроницаемость и не поддаются изменениям, даже если на них оказывается воздействие. Натюрморт пытается передать соположение вещей вполне реалистично. Но вот что интересно: в натюрморте указана линия движения вещей, – все они падают, складываются, опускаются, нагромождаясь, но нигде нет никаких переходов и складок. Не падают ли они по какому-то магическому отвесу в бесконечной пустоте мира, случайно, благодаря отклонению clinamen’у, воспетому некогда Эпикуром? Действительно, за каждой вещью в натюрморте призрак тяжести и устойчивости, хотя все они должны упасть; и только поверхность стола еще препятствует этому бесконечному падению. Пустота отвечает не только за разделение вещей и их индивидуацию, но и за их стремление к падению. Во взгляде художника, вполне фотографическом, она не претерпела никаких превращений (разве только те, которые изначально предполагались), поэтому нельзя сказать, что визуальное поле натюрморта забито складками («вещей»). Более того, там и нет вообще никаких складок, ибо каждая вещь представлена в своих индивидуальных свойствах. Конечно, можно и поверхность стола рассматривать как вспученную, распертую изнутри силами, которые подбрасывают вещи как при взрыве, перевертывают, не разрушая, дают лечь друг на друга как придется. Тогда включение касания в зрительный акт и есть визуальное. Визуальное – это вся, и самая разнообразная, технология остановки живого движения. Вероятно, визуальная форма появляется, когда мы получаем исчерпывающую информацию с поверхности вещи. Видимое – то, что имеет кожу, оболочку, то, что может быть открытой поверхностью, и что передает нам ценную информацию о мире.
I. Влечение к хаосу
1. Смех и страх. Статус происшествия
Над чем же мы смеемся, читая Гоголя? Прежде, однако, выбросим словечко «над». Смеемся не над чем, просто охватывает широкая смеховая волна, как только сознаешь, что образы гоголевских положений (фигур, поз, жестов, звуков, оборотов речи, «словечек» и т. п.) невозможны, напрочь разрушают чувство реальности. Что это за удивительный язык, который будто нарочно перегружен ошибками, описками, неточностями, несуразностями и нелепостями, словно побитый молью «пылающий красками» ковер? И что это за люди, в тех же «Мертвых душах», откуда они взялись, где живут, есть ли у них родина, семья, привычки, личная история, обязательства, долги, любовь, драма жизни? Кто они такие?! Зачем они? Правда, давно известно, что это не люди. Ни сатира Просвещения, ни мягкая и умная ирония немецких романтиков, их философичная рефлексивность не сопоставимы с гоголевской доктриной «всеобщего» смеха. В «Авторской исповеди» Гоголь делает замечание относительно «Мертвых душ» (правда, несколько «запоздалое»): «Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего»[7 - Гоголь Н. В. Сочинения. СПб.: Издательство Ф. Маркса, 1893. C. 274.]. Гоголевское произведение не подчиняется классическим законам мимесиса, оно не столько отражает реальность, сколько взрывает ее… смехом:
«Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротической чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупной аристофановской солью»[8 - Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л.: Academia, 1933. C. 156.].
Таких и ему подобных упоминаний о гоголевской манере чтения много. Но есть и другие, более проницательные. Вот, например, мнение Анненкова:
«Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины – меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и, наконец, он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. /…/ Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, – критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью…»[9 - Анненков П. В. Гоголь в Риме летом 1841 года – Гоголь в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат. 1952. C. 284.].
Действительно, потеря миметической способности привела Гоголя к творческому тупику, из которого он так и не нашел выхода. В последние годы жизни он попытался с помощью «надуманной и ложной» аскезы, чрезмерного религиозного рвения обрести новые источники вдохновения. Однако чувство «вины» и желание оправдаться начинает подавлять смеховую интенцию, игру в абсурд, и та исчезает. Об этом свидетельствуют уже первые страницы второго тома «Мертвых душ». Хотя, конечно, очень трудно объяснить, почему так быстро наступило физическое истощение, а затем смерть, что иначе как самоумертвлением и назвать нельзя.
Референция к действительности, т. е. правдоподобие превращает гоголевский язык в сплетение необыкновенных звуковых, стилистических, мимических событий. Смех вырывается как искра из столкновений несопоставимых образов. Несопоставимость сопоставляемого? Несопоставимость – расстояние между двумя образами – настолько велико, что их временное соединение в одной фигуре, или принуждение к нему кажется «неестественным» (в этом обвиняли Гоголя многие критики).
Вот пара картин из «Мертвых душ».
В центре одной – въезд коллежской секретарши Коробочки в город N. Но об этом мы узнаем в конце эпизода – собственно, момент «въезда» – последний аккорд. Что сразу же поражает? Естественно, «экипаж-арбуз». Распухший, вот-вот лопнет, он набивается всякой всячиной: подушками, мешками, калачами, кокурками и скородумками, пирогами и прочим, раздаваясь во все стороны и не теряя своей баснословной вместимости. Есть здесь даже «малый в пеструшке», оказавшийся мертвецки пьяным, есть и замечательный былинный будочник, «казнивший на себе зверя». Потом этого будочника мы встречаем повсюду, он вновь является как призрак, мелькает и экипаж-арбуз – самое настоящее чрево на колесах. Есть здесь и «церковь Николы на Недотычках», – все находит место, не говоря уже о «девке с платком на голове» (черт знает что такое – этот «платок на голове», да еще «телогрейка»!). А «тюрюки и байбаки» из другого эпизода, когда городок N, пустынный, вечно спящий после сытного обеда, вдруг в одно мгновение оказывается перенаселенным: словно из-под земли и разом появляются старожители, о существовании которых никто не догадывался.
«Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. ‹…› Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи, с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых было не слышно никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный с простреленной рукой такого высокого роста, какого даже не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки – и заварилась каша»[10 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 190.].
Находим и примечание с пояснением «незнакомых» слов: «Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно подымать: не встанет ни в коем случае»[11 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 156.]. Картинка ожившей на мгновение природы – в стиле фантастического nature morte, – ожившей, чтобы поразить и тут же исчезнуть навсегда. Ткань гоголевского письма развертывается быстро и в сторону: автор не в силах сдержать напор собственного воображения, подчинить единству повествовательной логики. Отдельный образ получает возможность развиваться, расти независимо от смежного и даже подобного… Описание («проснувшегося города») легко разбить на отдельные пластические или звуковые жесты – между ними нет никакой связи. Фонетическая игра, звуковые всплески и вибрации предметов противостоят застывшим позам персонажей, неподвижности окружающего мира. Только ритмическое начало языка может заставить сомкнуть ряды незавершенных, отдельно отстоящих образов, и они слипаются, чтобы образовать искрящуюся пленку, которая заполняет чем-то наподобие лака все пазухи и трещины, скрыть хаос, что пробивается отовсюду. Но это не значит, что реальность устраняется, она уже есть и прямо перед нами… и это смех. Смех ради смеха и есть гоголевский смех. Оправдываясь (после холодного приема «Ревизора»), Гоголь пытается объяснить свое отношение к смеху:
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был – смех. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозванье комику – прозванье холодного эгоиста и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей; – но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, – излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: “неужели есть такие люди?” тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел»[12 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 4. С. 256–257.] (Разр. моя. – В. П.)
Я выделил фразы, которые подчеркивают неуверенность Гоголя; он хочет как можно осторожнее сформулировать мысль и оправдаться, но не получается. Смех, который Гоголь защищает, не смех патологический, болезненный, не «привычка все осмеивать», это не тяжелый, все уничтожающий смех, но и не поверхностный, не смех как развлечение или забава, не смех легкий, а смех светлый, которому по силам задача озарять собой и примирять все достойное осмеяния. Смех – это свет, не общее освещение, а точно направленный луч, который проникает во тьму… хотелось бы верить. Но что он, собственно, освещает? Ведь все та же чудная морока, рассеиваясь, открывает мир невиданных чудовищ и уродов, застывшую картину мертвой природы. Гоголь, возможно, и желал светлого смеха, но не смог овладеть им. Впрочем, допущена неточность: Гоголь определенно обладал великолепным чувством, но только одной модальности смеха – скатологической. Гоголь лишен чувства «тонкого, пристойного юмора», он и не сатирик, скорее скатологист высшей пробы, «ругатель» и обзывала; в его стиле нет и в помине ничего от трансцендентализма романтической иронии; да он просто неспособен к ней, ведь он «примитив», мифограф, комик, бессознательный лицедей, притворщик, мим, которому чужда всякая рефлексия, оглядка на возникший образ и его оценка. Правда, эта способность теряет силу, как только сталкивается с материей смеха – внезапно обрывающийся на пороге жути смех.
Итак, с одной стороны, смех светел, но с другой – его сила в том, что он представляет всякие мелочи и случайности жизни, людей и вещи в таком ярком свете, что один их вид вызывает у нас «содрогание», настоящий ужас (да, кто может выдержать такое освещение?). Гоголевский смех не имеет вариаций и развития, он ни мстительный, ни торжествующий, ни черный, ни красный, ни белый, ни радостный, ни горький… он никакой, в нем угадываются силы первоначального хаоса. Смех ни над чем, смех «без причины», смех всеобщий, – что-то от первоначального ужаса.
«Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотом по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!»[13 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 1. («Страшная месть»). С. 174–175. См. также: Ремизов А. Сны и предсонье. («Огонь вещей»). СПб.: Азбука, 2000; а также: Терц А./Андрей Синявский. В тени Гоголя. М.: Аграф, 2001. C. 104–105.].
Смех, будто обрушивающий мир в ничто, из которого его не вернуть в первоначальной целостности. Писатель – колдун, добрый и злой, он владеет миром через смех и страх (испуг), ловко манипулируя их истинными причинами. Даже маски колдуна недостаточно, чтобы отразить весь ужас, который сопровождает гоголевский смех. Этот смех поистине первозданный, скорее подземный, сотрясающий земное смех Тартара, чем олимпийский. Гоголь мастерски оперирует различными смеховыми приемами, но они лишь повторяют друг друга и остаются безразличными к иным модальностям смеховой субстанции (например, к иронии или сарказму)[14 - Достаточно сравнить гоголевский «физиологический» смех с культурой смеха и комического, развернутой Жан-Полем Рихтером в «Приготовительной школе эстетики», чтобы убедиться в том, насколько романтическая ирония отличается от образцов чистого юмора. Гоголь – чистый юморист, поэтому для него и нет никакой особой позиции, куда бы смех не смог проникнуть, как если бы был возможен наблюдатель, способный все делать смешным, но самому остаться вне действия смеха. Ироническое снижение и игра в превосходство того, кто рассказывает, над тем, кто слушает, Гоголю чуждо, у него нет иронической утонченности. Гоголевский рассказчик не в силах совладать со смеховым происшествием, он так же поставлен в тупик, как и персонаж, которого он изображает, беря «характер» в столь гиперболическом масштабе. Смех поражает и его.]. Очередной приступ смеха сопровождается нарастающим чувством страха, смех едва прикрывает собой испуг, стыд перед возможным разоблачением, словно смех обнаруживает греховные помыслы, стоит даже перекреститься и сказать: «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!». Грех уже в раскрытом смеющемся рте, ибо раскрытый рот (как учили древние) – явление сил хаоса[15 - Мифема «разинутый рот» обсуждалась в исследованиях М. Бахтина: «Но самым важным в лице для гротеска является рот. Он доминирует. Гротескное лицо сводится, в сущности, к разинутому рту, – все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны» (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. C. 343).].
Вероятно, именно этот смех так напугал А. Белого. В письме к Мейерхольду, в котором он всячески поддерживает сценическую интерпретацию «Ревизора» (1926), Белый дает наиболее полную оценку гоголевского смеха: «Где это у Гоголя тот “здоровый веселый смех”? Разве что в первых рассказах из “Вечеров”, где этот веселый смех фигурирует откровенно, наряду с откровенно фигурирующею чертовщиною; уже к концу первого периода чертовщина, так сказать, втягивается в натурализм, поглощаясь им, но ценой превращения “натурального” смеха в такой “рев ужаса” перед увиденной дичью тогдашней России, от которого не поздоровится; сам Гоголь в одном месте, говоря о смехе, выражается: “Загрохотал так, как если бы два поставленных друг против друга быка заревели разом”. И этот рев, грохот хохота, в иных местах громок, как судная труба; так что не знаю, что ужаснее: “Вий” и отплясывающий тут же гопака козак или какой-нибудь Аммос Федорович, без всякого Вия и прочих чертей. Так что все попытки Ваши к остранению “Ревизора” в направлении к реву хохота-грохота лишь выявление самого Гоголя. И это дано у Вас постановкою великолепно; плакат с объявлением о приезде чиновника, дьявольская скачка по залу вплоть до горячечной рубашки и прочих мелочей – все повышает конец “Ревизора” до грома “апокалиптической трубы”. Этого и хотел Гоголь; Вы лишь вынимаете Гоголя из ваты, в которую он должен был обвернуть громоподобное действие, чтобы в николаевской России вообще было возможно гоголевское слово; Гоголь прибеднивался простачком, чтобы горький отравленный режущий смех обернулся бы в видимость только “смеха”. Вся эта линия – линия пресуществления смеха и только смеха в пророческое слово Гоголя, встряхивающее, убивающее, – вся эта линия безукоризненна в Вашем “Ревизоре”»[16 - А. Белый – В. Э. Мейерхольду. Москва, 25 дек. 26 года. – Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896–1939. М.: Искусство, 1976. C. 257.]. Вот этот особый смех, смех гибельный и разрушительный, мир, входящий в последний приступ распада, «последний смех» резонирует с разнообразными оттенками смеховых ситуаций, которые лишь множат один и тот же эффект абсурда.
* * *
А между смехом и страхом – что?.. То, что их соединяет и что делает их неразличимыми в гоголевском нарративе, это скука. Все собранные Гоголем анекдоты, и ставшие ныне литературой (отдельными произведениями), все они – эмблемы скуки. Скучное – свидетельство пассивного бытия (субъект, буквально тонет во вневременном разрыве, в который заброшен). Как только наступает скука, время становится пустым, ничто уже не может случиться. Развеять скуку – это вернуть времени как экзистенциальной длительности свойственную ей активность, вновь заполнить событиями. Когда рассказывается анекдот? Да тогда, когда исчерпано содержание разговора, общение перестало удовлетворять, «все скучают». Вот тут и появляется анекдот, он наполняет бессодержательность разговора мнимым содержанием и остротой, создает ложный эффект интереса, «вовлеченности» не в то, о чем говорят участники разговора, а в то, что сразу может стать понятным, и вместе с тем нисколько их не затронет, не потребует напряжения чувств и мысли, напротив, позволит расслабиться, прибавит уверенности, развлечет, рассмешит. Анекдот – это разновидность сплетни, обретшей литературную форму, его моральная форма безлична, это происшествие, отрицающее смысл событий, о которых рассказывается[17 - Розанов это хорошо видит: «План “Мертвых душ” – в сущности, анекдот; как и “Ревизора” – анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прощелыгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, “Женитьба”, “Игроки”, и повести, “Шинель” – просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат. Поразительная эта простота, элементарность замысла; Гоголь не имел сил усложнить плана романа или повести в смысле развития или хода страсти – чувствуется, что он и не мог бы представить и самых попыток к этому – в черновиках его нет». (Розанов В. В. Уединенное. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 317).]. Можно «умереть от скуки», когда не о чем писать, когда нечего делать, и надобно хоть какой-нибудь анекдот, чтоб включить машину письма, заставить время вновь наполниться содержанием. Смерть как средоточие скучного, – абсолютной скуки. Отсюда просьбы и поручения Гоголя к своим корреспондентам рассказывать о том, что происходит – анекдоты, «случаи», поговорки, происшествия – все может пойти в дело, а уж он-то все сделает для того, чтоб его читателя/слушателя разбил смеховой паралич. Чтобы не скучать, чтобы было интересно. «Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце. Да и везде недурно нашпиговать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз»[18 - Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. М.: Художественная литература, 1988.]. Должно быть жутко смешно, должна наступить жуть от смеха, мы должны смеяться до жути, перейти предел, когда уже не до смеха. Страх и смех балансируют на краях пропасти, куда свалилось время, охваченное скукой. Вот почему комика, и – шире – комическое – след пустого времени, оно заполняется невероятными происшествиями, имитирует ход реального времени событий, но ничто не изменяется, все остается неподвижным. Не удается скрыть страх перед ничто, который таится в скуке, страх перед застывшим временем жизни…
Но вот неожиданно точный комментарий самого Гоголя к первой части «Мертвых душ»:
«Идея города. Возникшая до высокой степени пустота. Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все это возникло из безделья и приняло выражение, смешное в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей. /…/ Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной? не страшно ли великое она явленье? Так слепа… жизнь при бальном сиянии, при фраках, при сплетнях и визитных билетах. Никто не признает… /…/
Весь город со всем вихрем сплетен: прообразование бездельности жизни всего человечества в массе. Рожден бал и все соединения. Сторона славная и бальная общества. /…/
Как низвести всемир[ные] безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?»[19 - Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 545.Вот комментарий В. В. Розанова: «Удивительно, до поразительности удивительно, как эта черновая запись, брошенная Гоголем в корзину и вытащенная оттуда Тихонравовым, не только до глубины выражает, но и до подробностей очерчивает ту картину, над которой мы плачем сейчас. О, наш пророк с «незримыми» его «слезами»; о наш вещун! Не об одной России он плакал; особенность его странной и никем никогда неразгаданной (и источниках) печали быть может лежала в том, что рок указал ему быть Иеремиею не руин своего времени, своего отечества, но культуры европейской, но цивилизации… христианской». (Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. М.: «Республика», 1995. С. 56)].
Вихрь бала, «все летит и улетучивается в быстром галопаде», также вдруг и неизвестно откуда – вихрь сплетней, что окутывают город, оба эти вихря точно выражают подлинный смысл всеобщего безделья как особого рода умения получать удовольствие из скуки, из ничегонеделания. Но за поверхностью этих ложных явлений жизни то неподвижное, пустое, что оказывается прообразованием[20 - Это гоголевское «словечко».] смерти, победившей жизнь и все живое, – царство мировой скуки.
Игра без правил. Отмена целого пласта реальности, который в повествовании является обязательной рамкой для временных знаков события[21 - Не реальность в физическом смысле слова, а образ реальности, хотя и чисто условный, но с которым соотносятся все высказывания о «реальной» реальности. Ср.: «У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность как она есть вокруг нас. Я даже не могу заговорить ни о чем, кроме того, что близко моей душе». (Вересаев В. Гоголь в жизни… С. 354.)]. Однако событий нет, только происшествия. Очередное происшествие языка… и взрыв смеха, какой иногда испытываешь в качестве свидетеля трагикомичных уличных сценок: сначала пугаешься, а потом смеешься, если все обошлось и никто не пострадал, а ты сам отделался легким испугом. Смех не столько чередуется с испугом, он и есть выражение испуга, – предвестника будущего ужаса, освободиться от которого можно опять-таки лишь смеясь. Смех, вытесняя смысл, становится свидетельством происшествия… Принцип: то, что не должно случиться, то обязательно случится, – разве это не повод для смеха? Происшествие – не событие, а общее имя для всего невозможного и чудного. В происшествии объединены свойства случая и чуда, например, «чудесное происшествие (или приключение)». Происшествие сполна проявляет стихию исторического, внезапно вторгается в монотонную, «спящую» повседневность природного бытия, оживляя скрытые конфликты. Происшествий не ожидают, они со всех сторон и нигде, они столь часты, что отыскать их причину невозможно, их признают, они шокируют, им удивляются. В отличие от события происшествие не имеет внутренней меры времени – длительности – и исчерпывает свое содержание в каждом моменте проявления. «Вот так это и случилось… (и ничего не поделаешь)!» – всякая событийная интерпретация выглядит излишней. Реальность же предстает как случай. Вот почему мы настаиваем: явление гоголевского персонажа – это «несчастный случай», accident. Литература Гоголя – парад происшествий, все в первый и последний раз. Гоголь как сценограф: не рассказывает, а показывает, мимически точно, театрально представимо. Поскольку происшествие случайно, оно не может не удивлять, и если нет иного контакта с реальностью, кроме случая, то и сама реальность предстает как одно происшествие. Если сходные обстоятельства повторяются, то жди обязательно: что-то случится; если же это что-то и происходит, то всегда неожиданно, т. е. потому, что не должно было случиться. Ожидание тревожно, испуг внезапен и благотворен, он хотя бы на время освобождает от тревоги, давая возможность посмеяться над ней. Да ведь и «истории» нет, – для этого понадобилось бы ввести мотивы, установить причинные связи, наделить повествование моральной формой, что потребовало бы критической рефлексии, и, как следствие, заставило бы искать смысл в собственном литературном деле. Гоголь – подлинный творец абсурда[22 - См. подробнее: Бушуева М. «Женитьба» Н. Гоголя и абсурд. М.: ГИТИС, 1998.]. Абсурд – это выход образа за собственные пределы. Но что это за «выход»? Выход за пределы – но это не гипербола, не другой троп, т. е. не просто преувеличение, – допустим, чрезмерное и надуманное, но все-таки совместимое с границами образа, – а полное его разрушение. Переход к восприятию непредставимого, ни с чем не соотносимого, иначе говоря, лишенного всякого смысла, – вот когда, действительно, становится смешно. Смех убивает нас судорогой, «вздрогом», как уточнял А. Белый.
Из всех теорий смеха только теория комического А. Бергсона может послужить основой для выяснения особенностей гоголевских смеховых приемов. Правда, сразу же надо внести некоторые уточнения. Следует различать смех (определенная реакция на смешное), комическое (то, что может вызвать смех) и смеховую ситуацию (то, что вызывает смех). Комическое – наше представление о том, когда и по поводу чего мы смеемся, осталось бы неясным без внезапно возникшей смеховой ситуации. Ведь ситуативность определяет начальные условия смеховой реакции. Необходимо описание места(сцены), оценка продолжительности того, что и как происходит (время), и что из происходящего и какую требует реакцию, насколько спонтанную (интенсивность) и прочее? Ирония, гротеск, карикатура, шарж – все приемы, которые позволяют несмешное делать смешным (все может стать смешным). Гоголь использует иную, чем в сатире или гротеске, миметическую технику; он не над и не внутри, а скорее вне; его персонажи, все эти невероятные куклы-чудовища, не откликаются ни на какое подражательное движение, исходящее от автора, они не отражают, а поглощают миметическое. Но что значит поглощать миметическое? Допустим, что универсальной причиной смеха, по Бергсону, всегда является природная косность, ставшая автоматической[23 - Ср.: «Причина комизма здесь одна и та же. И в том и в другом случае смешным является машинальная косность там, где хотелось бы видеть предупредительную ловкость и живую гибкость человека» (Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. С. 15).]. А это значит, что там, где ожидается живое движение, реакция или порыв, мы находим остановку, некий обрыв или каталептический транс (уверенная поступь сомнамбулы в лунную ночь – пример такой косности). Следовательно, мы смеемся над тем, что лишено достаточной гибкости и свободы, достаточной миметической силы, чтобы избежать поглощения косным автоматизмом омертвевшего. Смех усиливается, если все попытки совершить управляемое движение оказываются тщетными. Ведь привидения, монстры, вампиры и вурдалаки, серийные убийцы и молчание ягнят, летающие ведьмы и дети кукурузы – весь этот практически неисчислимый ряд персонажей-двойников – инициирует вселенский «громоподобный» смех, которым объявляется ужас существования.
Истинный смех, или смех, который не принадлежит никому, если угодно, дзенский смех, это смех, рожденный из условий абсурда, и он – единственный выход. Это вовсе не значит, что причиной смеха может оказаться некая особая ситуация (как бы она ни казалось смешной). Конечно, смех, чтобы распространиться и заразить собой, нуждается в завершенности смеховой ситуации (наборе всех необходимых условий), но истинной причиной останется все же та, которая ничем не определяется и ни в чем не может быть выражена, – смеюсь в силу абсурда (нет повода для смеха, но смешно). По природе своей юмор ближе к реакции на абсурд (на нелепости, «чудности» ситуации); он всеобщ, не локален и не субъективен, он – «смех без причины». Юморист – чаще не субъект юмора, а объект, носитель скрытой силы абсурда, ведь ею пронизано повседневное бытие; поэтому заразительно смешным будет то нечеловеческое, что пытается представить себя человеческим[24 - Главное упущение достаточно систематичного обсуждении В.Я. Проппом тем юмора и комики – в предположении, что смех может вызываться произвольно и независимо от условий (т. е. от некой ситуации), как будто в мире есть что-то смешное, и что существует независимо от того, будем ли мы смеяться над чем-то или нет. Отсюда, и следуя за Бергсоном, Пропп начинает перечислять возможные причины смеховых ситуаций, которые, конечно, можно дополнить, но они настолько субъективно ограничены, что не могут служить основанием для понимания природы смеха. Все исследование останавливается на пороге анализа смеха-над без перехода к смеху-без-причины, мировому, возникающему безотносительно к пожеланиям смехового субъекта. Если и есть некое смеховое начало, чуть ли не субстанция смеха, которой мы все должны быть приписаны, то уж во всяком случае, она не может принадлежать нам. Наш смех не имеет достаточной причины, чтобы стать смехом всеобщим. (Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976).]. Иногда смех является следствием осознания безысходности, той абсурдной ситуации, в которую ты заброшен…
* * *
Разное отношение к Гоголю как комику и миму. Но к двум крайним взглядам я бы отнес, с одной стороны, «наивность» проф. Ермакова, с другой – «прожженность и сарказм» проф. Набокова. Первый пишет: «Гоголь проводит четкую границу между неорганическим (скоморох) и органическим смехом, другими словами, между частичным (“беспутный”) и всеобщим (смеяться сильно над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего)»[25 - Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин, Гоголь, Достоевский. М.: Новое литературное обозрение, 1999. C. 201.]. Второй же вообще ставит под сомнение смеховое начало у Гоголя: «Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе»[26 - Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: «Независимая газета», 1996. С. 52.]. И далее: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргорода” – о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках»[27 - Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: «Независимая газета», 1996. С. 53.]. И это «пишется» после гоголевских гримас Розанова. Ермаков-психоаналитик допускает, что Гоголь-пациент может управлять собственным заболеванием достаточно искусно, и даже «заиграться в болезнь». Вот почему важно не то, что Гоголь говорит о себе, а те причины, которые заставили его так говорить. Сколько бы Гоголь ни пояснял природу собственного смеха, и ни идеализировал ее, понятно, что этот смех не относится к миру с добродушной иронией, но он не является и смехом мщения или уничтожающим смехом. Этот смех рождается из абсурда гоголевских словечек и положений, и поскольку особенности изображения настолько невероятны, нелепы, что скорее пугают, чем действительно смешат. Каждое словечко – «происшествие», а раз так, то говорить о какой-то разумной силе, которая якобы управляет гоголевским смехом, не приходится. Гоголь – чистый комик, он всегда смеялся смехом бессмысленным. И смешил до тех пор, пока смешное не теряло связь с породившей его ситуацией. То, что действие гоголевского смеха продолжается до сих пор, определяется не тем, что сохраняются прежние условия смеховой ситуации (что и сегодня в жизни полным-полно «Хлестаковых» или «Городничих»). Напротив, как раз именно потому, что гоголевский смех безотносителен к ситуации, в которой рожден, и делает его универсальным феноменом, вне времени и места… Лучший читатель Гоголя бьется, ослепший от слез, в смеховых конвульсиях, как будто его насильно щекочут или пытают слабым электрическим разрядом; говорить о других вариантах чтения не приходится.
2. Произведение из хаоса
Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ».
Н. Гоголь
В метафизике искусства, развитой немецкими романтиками, противопоставление произведение (Космос) – природа (Хаос) оказывается тонко расчлененным предметом мысли[28 - Обращение к идеям немецкой романтической традиции (Ф. Шлегелю, С. Кьеркегору, Ф. Гельдерлину, И. Герресу, Ф. Баадеру, Жан-Поль Рихтеру и философии Шеллинга) вызвано стремлением еще раз определить насколько полно литература Гоголя отражает универсальную онтологию романтического, насколько эта литература становится литературой благодаря именно романтическому переживанию, какие категории, понятия, представления или идеи оказываются для нее регулятивными и направляющими, независимо от того, сознаются они или нет? Мы опускаем вопрос о прямых заимствованиях и подражании (см., например, важные работы академика В. Виноградова).]. Древние греки видели в хаосе нечто бесформенное, часто внезапное и катастрофическое проявление природных сил и противопоставляли его Космосу. Хаос – первоначальное состояние всего того, что еще не получило или только что потеряло форму (ср.: «погрузиться в хаос»). Это сама Природа, в своей первозданности. Сначала был хаос, и не было ни неба, ни земли, первоначальное состояние сил природной материи, до-или-постчеловеческое. Хаос – бездна, что «шевелится под ногами»[29 - Ср. также: «Хаос – позднейшие объясняют его как пустоту или даже как грубую смесь материальных стихий – это чисто умозрительное понятие, но не порождение философии, которая предшествовала бы мифологии, а порождение философии, которая следует за мифологией, стремится постичь ее и потому выходит за ее пределы. Лишь пришедшая к концу и обозревающая с этого конца свои начала мифология, стремящаяся объять и постичь себя с конца, только она могла поставить хаос в начало» (Шеллинг Ф. В. Сочинения в 2 т. Т. 2, М.: Мысль, 1989. С. 190).]. Романтический гений представляет себе хаос несколько иначе, не как что-то беспорядочное, но как форму форм или абсолютную форму, по определению Шеллинга: «…ибо универсум есть хаос как раз вследствие абсолютности формы, или вследствие того, что каждое особенное и в каждую форму вложены опять-таки все формы и тем самым абсолютная форма»[30 - Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 89.]. В созерцании абсолютного и рождается представление о хаосе, т. е. как явление хаос принадлежит области творящего мир созерцания. В таком случае нет бесформенного, противостоящего форме, а есть лишь бесконечность самой формы. Романтическое переживание – это переживание бесконечного, и оно хаоидно по определению, ибо хаос само условие (даже принцип) созерцания вечных форм. Романтическое произведение проникается силами хаоса, они участвуют в его строе, отчасти или временно им поглощаются, но хаос не перестает также противостоять любой форме, участвуя в ее создании; форма же, в свою очередь, испытывая напряжение, которое привносят в нее силы хаоса, продолжает развиваться; все в движении, ничто не покоится, все хаотирует, приобретая форму, тут же ее теряет. Что же это за силы? К ним следует отнести, естественно, с оглядкой на поздних романтиков, литературный «примитив» и мифографию Гоголя следующие пары: силы расширения (высоты, широты, дали, быстроты) и сужения (распада, омертвения, окаменения, сжатия), влечения (радости, восторга) и отталкивания (страха, ужаса, отторжения, неузнавания). Одни силы активные, «творящие», другие реактивные, пассивные. Два образа хаоса: позитивный, когда он переживается как природное сверхизобилие, источник всех энергий и форм жизни, как даль, широта и быстрота охвата всего того, что чувствуется, помышляется или представляется; негативный, когда он – сила, грозящая небывалым опустошением, утратой формы, истощением, погружением во мрак и ужас, и нет больше выбора в объектах чувственных переживаний. Гностический знак падшести природы – хаос – предстает как негативный образ бесконечного. Конечно, негативно переживаемая бесконечность не имеет ничего общего с позитивной, которая открывает для романтического субъекта, воображающего себя бесконечным, горизонт фихтеанского «я». Субъект ничем не ограничен и способен, бесконечно ускоряясь, пробегать грани любого фантастического образа. В каждой точке романтического пространства, в каждом мгновении мы найдем это «я», или то, что романтики назвали «самостью», Selbstheit. Это «я», умноженное в своих «неземных» измерениях, своего рода духовный эквивалент мира.
Романтическое эго имеет достаточно сложное строение, ведь оно должно быть одновременно бесконечным и конечным, чтобы открылась возможность разрешить апорию созерцания (бесконечное может созерцаться только тем «я», которое, будучи конечным, в основе своей является бесконечным). Шлегель включает в состав романтического чувства «я» инстанцию пра-я, которая поддерживает притязания «я» на мир и содержит в себе опыт бесконечного. Все же то, что является или может быть представлено как внешнее, есть противо-я, которое, в свою очередь, постигается в качестве возможного «ты» (хотя природа и природные вещи остаются внешними, тем не менее их познание на основе духовной структуры я/пра-я возможно). Эго – это идеальная форма ловушки, устроенной романтиком силам хаоса. Но вот что нужно иметь в виду при анализе романтического миросозерцания: романтическое «я» везде «как дома», т. е. не допускает существование внутри эго-инстанции каких-либо форм не-я, непереводимых под патронат «я»[31 - Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 2. М.: Искусство, 1983. С. 154.]. С другой же стороны, отрицательные силы хаоса подавляют, разлагают, всасывают в себя позитивную энергию и, естественно, исключают романтического субъекта из игры бесконечного. Шеллинг указывает на двуначальность человеческой (читай, романтической) природы. Два центра, смещающиеся и расходящиеся: темнота (тяжесть) – свет (легкость). Одно в другом, из тьмы рождается свет, но свет не в силах преодолеть тьму, она хоть и в остатке, но всегда действенна и неуничтожима, лежит в основании света как базовый тварный элемент. Хаос как солнечный диск световых, кипящих сил бесконечного, как энергия-плюс, и хаос как черная точка, пятно, дыра, как энергия-минус; хаос, одаривающий игрой сил и свободных энергий, и хаос, извлекающий ее, поглощающий; первый рождает формы, второй их уничтожает[32 - Ср.: «На поздней стадии романтизма хаос – это образ и понятие негативные, и сам хаос темен, и дела его темны. У ранних романтиков все можно получить из рук хаоса – и свет, и красоту, и счастье, для поздних хаос все отнимает и ничего не возвращает». (Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л.: Художественная литература, 1973. С. 37, С. 38.) Исторический аспект не выглядит в данном случае обоснованным, как на это надеялся Берковский. Романтическое понятие хаоса двойственно и не делится сначала на черное, потом на белое без остатка. Можно говорить о различных видах настроенности в ранней или поздней романтике, но понятие хаоса (как понятие) включает в себя эти моменты историчности как снятые, или вытесняемые.]. Триадическая структура инстанции романтического эго – «противо-я»/«я»/«пра-я» – соответствует состояниям хаоса: позволяет романтику управлять образцами хаотического.
Но что такое центр в романтическом опыте? Это всегда точка, пункт, точка зрения (вид или перспектива), включенная в круг, так как всякий центр есть отношение к тому, что вне центра, к тому, что находится на периферии. И вот мы видим геометрию двух хаосов, двух начал: точка в центре круга. «Всякое существо во вселенной есть центр, который воспринимает все радиусы, которые идут к нему извне от всего прочего с удаленной в бесконечность окружности его, воспринимает столько радиусов, сколько способен воспринять»[33 - Баадер Фр. Из дневников и статей – Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987. С. 532–533.]. Интенсия сжатой в точку энергии и экстенсия в виде мгновенно расширяющегося круга. Свертывание и развертывание; первое уходит в темные слои «пра-я», во внутренние измерения «я», второе взрывается и распространяется с быстротой света, на мгновение озаряет изначальный мрак; нехватка и избыток бытия. Гармоничное равновесие сил в романтике достигается возможной экспансией точки из центра на периферию круга, с обязательным возвратом на прежнее место. Периодичность возврата неизменна. Точка пульсирует, ее взрывная динамика усмиряется глубинной безосновностью тварного бытия, вероятно, чем-то схожего с «черной дырой». Иначе говоря, в теории двух начал, присущей романтическому миросозерцанию, действуют и два рода сил: силы взрывные, освещающие, светлые и силы кристаллизации, оцепенения, подавления, тяжести; яркое и светлое всегда прослоено, начинено темными пятнами, темное покрыто светящимися точками. Но это, однако, не простая дихотомия, учреждающая разделение сил светлого и темного, мрака и света и их смешение. «Без предшествующего мрака нет реальности твари; тьма – ее необходимое наследие»[34 - Шеллинг В. Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 109.]. Два центра силы, темный и светлый[35 - Ср.: «Так вообще я, индивидуальность, есть в самом деле базис, фундамент или естественный центр каждой тварной жизни; однако, как только она перестает служить центром и властно выступает на периферию, в ней загорается злобное танталово себялюбие и эгоизм (возгоревшегося Я). О превращается
, а это означает: в одном-единственном месте планетной системы замкнут, латентен темный центр природы, и именно поэтому он в качестве носителя света служит проникновению высшей системы (излучению света или открытию идеального). Поэтому, следовательно, это место есть открытая точка (солнце, сердце, глаз) в системе – а если бы и здесь поднялся или открылся темный центр природы, то eo ipso погасла бы светлая точка и свет стал бы в системе тьмой или погасло бы солнце!». (Шеллинг Ф. В. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 115).]. Речь идет не о круге, а о сфере, точнее, о двух сферах, поддерживающих друг друга и различающихся по отношению к первоначальной неразличимости ничто, подлинной основы без-основного и неразличимого в себе Un-grund (Я. Беме).
Если мы теперь обратим внимание на наиболее повторяющиеся гоголевские образы, то заметим, насколько они точно следуют формальной онтологии романтического. У Гоголя обнаруживается сфера Анти-Земли (Небо), воздушная, бестелесная, распространяющаяся в даль и в широту; сфера Анти-Неба (Земля), концентрирующаяся в неподвижности и тяжести. Романтический субъект обретает свою динамику на границах эти двух сфер; точка – это его местопребывание на переходе от взрывной экспансии, расширения, к последующей концентрации и сжатию. Так сжимается сердце, сужается в точку горизонт, обездвиженное, цепенеет тело – время страха; или, напротив, расширяется, распахивается, сбрасывает тяжесть – время радости и полета. Вражда и любовь. Не отсюда ли то значение, которое придается мгновению? Ведь только оно имеет смысл в человеческом существовании, ни прошлое, ни будущее; сквозь мгновение прорывается бесконечное.
Романтического гения отличает томление, тоска по бесконечному; он всегда готов к встрече с бесконечным, как бы оно не представало перед ним, в виде ли грез, сновидений, кошмаров или чуда. Эта готовность переходит и на стилистическое своеобразие письма[36 - Значение мига и мгновения в романтическом поэзисе трудно переоценить. Ср., например: «…он (романтик) превращает каждый акт мысли в связную речь и каждое мгновение в исторический момент, он пребывает в каждой секунде и каждом тоне, и находит его интересным. Но он делает еще и более того: каждое мгновение превращается в одну точку конструкции, и как его чувство движется между сжатым “Я” и экспансией в космос, так каждая точка одновременно круг и каждый круг – точка». (Schmitt Carl. Politische Romantik. M?nchen und Leipzig, 1925. S.109). Но особенно богатый материал мы можем найти у С. Кьеркегора, где тема экзистенциальной временности разрешается в соотношении мгновения и вечности. (См. разбор темы: Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995.)]. Динамика первоначального хаоса, борьба всех тенденций, следовательно, не тел, а сил[37 - Ср.: «…динамический материализм делает первоначалом не тела, но силы, то есть нечто гораздо более высокое, и только из борьбы этих сил он выводит возникновение тел, рассматривая грубое внешнее явление их как обманчивую видимость». (Там же. C. 109.)]. Естественно, что действие этих сил в границах произведения иное, чем их действие в бес-и-пред-форменном состоянии хаоса; его уже нельзя обсуждать «чисто абстрактно» и «спекулятивно» (как это делает Шлегель, ссылаясь на Фихте), отвлекаясь от наличных форм чувственности, которые ими же и вызываются. Первоначальную силу бытия, почти мистическую, романтики называли влечением (стремлением и т. п.). Хаос влечет к себе… Если ужас и страхи, что переживаются перед лицом разрушения, гибели, угрозы смерти, могут быть обусловлены происходящими событиями, то непонятно, почему к ужасному, при всем отторжении от него и антипатии, нарастает чувство влечения, подчас эротически окрашенное. Неприятие, отрицание хаоса в пользу порядка и гармонии, и вместе с тем влечение к нему. Если раннее романтическое сознание подчеркивает в томлении по бесконечному светлую сторону хаоса, то позднее – темную. Сходная чувственная сила, – жуть, чудное и жуткое – постоянно проявляет себя в литературе Гоголя. Влечение к бесконечной полноте и раскрытости, абсолютной свободе и совершенству, свету может достичь некоего предела. Вот тогда и начинается движение в обратном направлении (при котором влечение к бесконечному «замораживается»). Силы активные обращаются в силы реактивные, пассивные, нет противостояния, есть лишь следование тому, что происходит само собой, что имеет собственную цель вне творческого порыва. Томление по бесконечному, обращаясь на противоположное себе, оказывается движением к самоуничтожению, пускай даже светлая сторона еще сохраняет некоторое число иллюзий и маскирует черную дыру, которая начинает все в себя втягивать[38 - Ключевым понятием для понимания места хаоса в строе романтического произведения является томление, Sehnsucht (тоска по бесконечному, совершенству, полноте жизни и искусства). Это сложное чувство можно определить как аффект, т. е. как эмоцию с биполярным строением переживания. «Даже в человеке томление в его изначальной форме – это такое духовное распространение во все стороны и во всех направлениях, неопределенное бесконечное влечение, не направленное на определенный предмет, но имеющее бесконечную цель, неопределимое духовное развитие и формирование, бесконечную полноту духовного совершенства и завершенности» (Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 2, М.: Искусство, 1983. С. 184).]. Вот романтический противоход, ведущий к инверсии терминов. В литературе Гоголя это влечение-к-хаосу входит в состав многих аффектов (страха, беспокойства, тревожности, мнительности, мании преследования и т. п.). Естественно, что это уже не томление по бесконечному, не искание его, но удвоение на противоходе романтического канона переживания: светлая сторона обрушивается в тьму, и тьма, как раньше, уже колдовски не играет светом, она черна, черная яма. Другой вопрос, каким образом в литературе Гоголя происходит расслоение сил влечения, замедление одних, выпадение других, усиление третьих и новое смешение? Жуть царит в «Страшной мести», «Портрете», «Вие», «Ревизоре» и «Мертвых душах», она едва прикрыта слоями юмора и комики. Влечение к хаосу видоизменяется, теперь оно не отражается в светлом смехе, не отреагируется, как говорят психоаналитики, в чудном, чудности происшествия. На «неестественную» жуть «Мертвых душ» один ответ – взрыв безрадостного, пугающего хохота. Смех как противоядие – под вопросом.
3. Представление кучи. «Первофеномен», образ и форма
Количеством и массою более всего поражаются люди.
Миг
7. Одно ясно: что-то завершилось, уточню, – почти, но не совсем (как будто завершились: «ужин», «завтрак», «охота», «рыбная ловля» и пр.). Как нам осмыслить это «почти»? А ведь это нужно сделать, если мы хотим понять природу времени, конституирующую организацию внутреннего пространства в натюрморте. «Почти» – это некий миг, или миг, предшествующий катастрофе, – весь мир на грани падения. Еще мгновение… и все будет кончено, но это мгновение не прекращает длиться. Рыба еще бьется, заяц может вдруг вскочить и снова бежать (во всяком случае, ни на одной из картин я не заметил какого-то решающего различия, например, между изображениями живой собаки и мертвого зайца, глаза этих существ, что удивительно, выражали одну и ту же печаль). Фрукты настолько свежи и кажутся зрелыми, как и ягоды, я уже не говорю о цветах или овощах… Все еще не отделено от жизни, и будто застыло в легком обмороке, предвкушая собственную смерть. Иногда полагают, что стоит отказаться от термина «мертвая природа», что будто бы в этом определении есть оценочный элемент, и что лучше говорить о «тихой жизни» (Stilleben), едва заметной, скромной, уходящей, неслышимой… Ведь предметом изображения является и все живое: люди, птицы, насекомые, домашние животные. На самом же деле различие между живым/мертвым в натюрморте проходит не по правилам аристотелевского мимесиса. Разве дело в правдоподобии того и другого? Метафизическая матрица натюрморта не опирается на столь ограниченные и случайные критерии. Да и «тихая жизнь» мало что говорит нам. Ведь основные критерии метафизики жанра заключены в принципе организации самих предметов. Скорее речь идет не о мертвой природе, а об искусственной, а точнее, о переходе от естественного к искусственному. Вещи как артефакты; именно благодаря тому, что вещь освободилась от прежних условий, навязываемых ей традиционными правилами воспроизведения. Натюрморт – это искусственная природа, «прирученная», «собранная и представленная в одном месте», доступ куда определяется как раз отказом от естественных свойств, от той культовой ауры жизнеподобия, которую исследовал В. Беньямин. Например, попугай-какаду, устроившийся на удивительной по изяществу раковине, несовместим с последней, и тем не менее в этом месте на полотне художника они не только совместимы, но и о чем-то нам сообща говорят… Другими словами, то, что попугай или насекомое или еще какое-нибудь существо кажутся живыми, вовсе ничего не значит по сравнению с тем фактом, что естественная жизнь более невозможна. Жить же можно только жизнью искусственной, или переходной. Все живые притворяются мертвыми, так и те, кто на самом деле мертвы, кажутся живыми. Однако о смерти пока нельзя говорить, смерть – это то, что еще наступит, а не то, что наступило. И здесь вся двойственность натюрморта, и она постоянно повторяется, поскольку нет никакой уверенности в том, что время завершено. Конечно, есть привычная точка зрения, вполне понятная: время закончилось, и теперь можно взять вещь в ее полной неподвижности, даже не просто как неподвижную, а как мертвую. Натюрморт как будто становится возможным, когда время в нем признано завершенным. Но как быть со временем транзитивным и временем распада, ведь они не совпадают? Художник не выводит натюрморт за масштаб этих измерений времени. Время натюрморта – до-и-после-время, отсчет идет от виртуальной черты мертвого, которая разделяет два времени (вечности) и не позволяет им смешиваться, и промежуток этот занят почти-временем. Невозможно возвращение к жизни, но и время распада еще не пришло, на этой черте и балансирует натюрморт. Внутреннее время вещи может быть описано как неустойчивое колеблющееся «почти», пластически же оно представлено как застывшее миг-время, что-то вот-вот упадет, но не падает, что-то должно закончиться, но не заканчивается…и вот это, что не то и не другое, и есть место вне жизни и смерти.
8. Пейзажное видение иное: оно упирается в боковину (торец) вечности, пассивно созерцаемой, ничем не ограниченной, кроме как бесконечной линией горизонта. Поэтому всякий миг созерцания окунается в неподвижное время, и оттуда ему уже не выйти.
9. Как мы видим, мертвая природа, nature morte – чисто условное понятие, его нельзя толковать как собрание «мертвых» вещей без человека. Надо учитывать его постоянное присутствие, ибо часто он выступает скрытой причиной организации или дезорганизации ближайшего к нам пространства. Серия «ученых» натюрмортов и важна тем, что она обнаруживает неизменное место наблюдателя. Натюрморт автобиографичен, это тот же портрет вещи, повернутый наиболее пластически ясной стороной для зрителя. Основные элементы жанра: природа, вещь, лицо. И повсюду одна и та же живописная техника. Вот почему преобразование по линии портрет-пейзаж-натюрморт всегда возможно, и оно идет: медленно гаснет дневной свет, на передний план из дальнего светового бесконечного, как бы пронзая всю широту воздушных масс фона, выдвигаются разные предметы: одни растут, другие уменьшаются в размерах; видящий становится истинным демиургом, тем, кто получает их в собственность, кто может ими оперировать, как ему заблагорассудится, и они окружают его со всех сторон… Наконец, появляется круглое голландское зеркало, – образ идеальной вещи, «внутреннего глаза», транскрипция глаза наблюдающего. Зеркало – подлинный портрет вещи, оно способно принять в себя весь мир, предельно сжать его, превратив в барочную обманку.
Куча всего. Загроможденность, тяжесть и падение
10. Что же происходит с вещами? Действительно, не превращаются ли они в небрежно собранную кучу, а иногда просто в ком, как только мы утрачиваем представление о том, что их разъединяет? В таком случае, мы уже не в силах ощутить особенности бытия, и ощущаем только материю, которая наделяет разные вещи общими свойствами. Какое собрание вещей можно назвать натюрмортом? – как видно, этот вопрос остается открытым. Если мертвая вещь – это уже не вещь с особыми свойствами, переданными ей человеческой рукой, а только фрагмент распадающейся материи, – старье, ветошь, куча всего ненужного и уже использованного. Отсутствие пустот между вещами, образующими собрание, лишает вещи их прежней физиогномики; они слипаются, ибо силы, их объединяющие, намного мощнее тех, что поддерживали разъединение. Материя еще не ком, но уже нечто скомканное, сбитое, сплюснутое: «…объектами натюрморта теперь только и являются, что складки. Рецепт барочного натюрморта таков: драпировка, образованная складками воздуха или тяжелых облаков; скатерть со складками изображенных на ней морей или рек; горящие огненными складками золотые или серебряные изделия; овощи, грибы или засахаренные фрукты, схваченные в ракурсе земных складок. Картина наполняется складками до такой степени, что кажется шизофренической “чушью”; мы не можем развернуть эти складки, не превращая их в бесконечные и не извлекая из них духовный урок. Нам кажется, что это устремление покрыть складками все полотно стало характерным и для современного искусства, творящего складки “all-over”»[6 - Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998. C. 212–213.]. Но так ли это на самом деле? Ведь то, с чем мы здесь сталкиваемся, заставляет говорить нас об одном способе представлять пространство – это его заполнять. Вот что стоит подчеркнуть: пространство заполняется, чтобы стать собой (заполняется, если угодно, «под завязку»). Хотя я вполне допускаю, что, «старея» и разлагаясь, вещи соединяются при полной пассивности бытия, тогда утрата ими пространственности неизбежна. Время тогда полностью побеждает форму, уродует, смешивает… но не в натюрморте.
11. Другой аспект. Конечно, не стоит забывать, что вещи имеют свою размерность, плотность, непроницаемость и не поддаются изменениям, даже если на них оказывается воздействие. Натюрморт пытается передать соположение вещей вполне реалистично. Но вот что интересно: в натюрморте указана линия движения вещей, – все они падают, складываются, опускаются, нагромождаясь, но нигде нет никаких переходов и складок. Не падают ли они по какому-то магическому отвесу в бесконечной пустоте мира, случайно, благодаря отклонению clinamen’у, воспетому некогда Эпикуром? Действительно, за каждой вещью в натюрморте призрак тяжести и устойчивости, хотя все они должны упасть; и только поверхность стола еще препятствует этому бесконечному падению. Пустота отвечает не только за разделение вещей и их индивидуацию, но и за их стремление к падению. Во взгляде художника, вполне фотографическом, она не претерпела никаких превращений (разве только те, которые изначально предполагались), поэтому нельзя сказать, что визуальное поле натюрморта забито складками («вещей»). Более того, там и нет вообще никаких складок, ибо каждая вещь представлена в своих индивидуальных свойствах. Конечно, можно и поверхность стола рассматривать как вспученную, распертую изнутри силами, которые подбрасывают вещи как при взрыве, перевертывают, не разрушая, дают лечь друг на друга как придется. Тогда включение касания в зрительный акт и есть визуальное. Визуальное – это вся, и самая разнообразная, технология остановки живого движения. Вероятно, визуальная форма появляется, когда мы получаем исчерпывающую информацию с поверхности вещи. Видимое – то, что имеет кожу, оболочку, то, что может быть открытой поверхностью, и что передает нам ценную информацию о мире.
I. Влечение к хаосу
1. Смех и страх. Статус происшествия
Над чем же мы смеемся, читая Гоголя? Прежде, однако, выбросим словечко «над». Смеемся не над чем, просто охватывает широкая смеховая волна, как только сознаешь, что образы гоголевских положений (фигур, поз, жестов, звуков, оборотов речи, «словечек» и т. п.) невозможны, напрочь разрушают чувство реальности. Что это за удивительный язык, который будто нарочно перегружен ошибками, описками, неточностями, несуразностями и нелепостями, словно побитый молью «пылающий красками» ковер? И что это за люди, в тех же «Мертвых душах», откуда они взялись, где живут, есть ли у них родина, семья, привычки, личная история, обязательства, долги, любовь, драма жизни? Кто они такие?! Зачем они? Правда, давно известно, что это не люди. Ни сатира Просвещения, ни мягкая и умная ирония немецких романтиков, их философичная рефлексивность не сопоставимы с гоголевской доктриной «всеобщего» смеха. В «Авторской исповеди» Гоголь делает замечание относительно «Мертвых душ» (правда, несколько «запоздалое»): «Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего»[7 - Гоголь Н. В. Сочинения. СПб.: Издательство Ф. Маркса, 1893. C. 274.]. Гоголевское произведение не подчиняется классическим законам мимесиса, оно не столько отражает реальность, сколько взрывает ее… смехом:
«Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротической чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупной аристофановской солью»[8 - Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М.; Л.: Academia, 1933. C. 156.].
Таких и ему подобных упоминаний о гоголевской манере чтения много. Но есть и другие, более проницательные. Вот, например, мнение Анненкова:
«Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины – меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и, наконец, он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. /…/ Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, – критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью…»[9 - Анненков П. В. Гоголь в Риме летом 1841 года – Гоголь в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат. 1952. C. 284.].
Действительно, потеря миметической способности привела Гоголя к творческому тупику, из которого он так и не нашел выхода. В последние годы жизни он попытался с помощью «надуманной и ложной» аскезы, чрезмерного религиозного рвения обрести новые источники вдохновения. Однако чувство «вины» и желание оправдаться начинает подавлять смеховую интенцию, игру в абсурд, и та исчезает. Об этом свидетельствуют уже первые страницы второго тома «Мертвых душ». Хотя, конечно, очень трудно объяснить, почему так быстро наступило физическое истощение, а затем смерть, что иначе как самоумертвлением и назвать нельзя.
Референция к действительности, т. е. правдоподобие превращает гоголевский язык в сплетение необыкновенных звуковых, стилистических, мимических событий. Смех вырывается как искра из столкновений несопоставимых образов. Несопоставимость сопоставляемого? Несопоставимость – расстояние между двумя образами – настолько велико, что их временное соединение в одной фигуре, или принуждение к нему кажется «неестественным» (в этом обвиняли Гоголя многие критики).
Вот пара картин из «Мертвых душ».
В центре одной – въезд коллежской секретарши Коробочки в город N. Но об этом мы узнаем в конце эпизода – собственно, момент «въезда» – последний аккорд. Что сразу же поражает? Естественно, «экипаж-арбуз». Распухший, вот-вот лопнет, он набивается всякой всячиной: подушками, мешками, калачами, кокурками и скородумками, пирогами и прочим, раздаваясь во все стороны и не теряя своей баснословной вместимости. Есть здесь даже «малый в пеструшке», оказавшийся мертвецки пьяным, есть и замечательный былинный будочник, «казнивший на себе зверя». Потом этого будочника мы встречаем повсюду, он вновь является как призрак, мелькает и экипаж-арбуз – самое настоящее чрево на колесах. Есть здесь и «церковь Николы на Недотычках», – все находит место, не говоря уже о «девке с платком на голове» (черт знает что такое – этот «платок на голове», да еще «телогрейка»!). А «тюрюки и байбаки» из другого эпизода, когда городок N, пустынный, вечно спящий после сытного обеда, вдруг в одно мгновение оказывается перенаселенным: словно из-под земли и разом появляются старожители, о существовании которых никто не догадывался.
«Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. ‹…› Все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи, с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых было не слышно никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный с простреленной рукой такого высокого роста, какого даже не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки – и заварилась каша»[10 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 190.].
Находим и примечание с пояснением «незнакомых» слов: «Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно подымать: не встанет ни в коем случае»[11 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Художественная литература, 1949. C. 156.]. Картинка ожившей на мгновение природы – в стиле фантастического nature morte, – ожившей, чтобы поразить и тут же исчезнуть навсегда. Ткань гоголевского письма развертывается быстро и в сторону: автор не в силах сдержать напор собственного воображения, подчинить единству повествовательной логики. Отдельный образ получает возможность развиваться, расти независимо от смежного и даже подобного… Описание («проснувшегося города») легко разбить на отдельные пластические или звуковые жесты – между ними нет никакой связи. Фонетическая игра, звуковые всплески и вибрации предметов противостоят застывшим позам персонажей, неподвижности окружающего мира. Только ритмическое начало языка может заставить сомкнуть ряды незавершенных, отдельно отстоящих образов, и они слипаются, чтобы образовать искрящуюся пленку, которая заполняет чем-то наподобие лака все пазухи и трещины, скрыть хаос, что пробивается отовсюду. Но это не значит, что реальность устраняется, она уже есть и прямо перед нами… и это смех. Смех ради смеха и есть гоголевский смех. Оправдываясь (после холодного приема «Ревизора»), Гоголь пытается объяснить свое отношение к смеху:
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был – смех. Он был благороден, потому что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозванье комику – прозванье холодного эгоиста и заставил даже усумниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей; – но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, – излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: “неужели есть такие люди?” тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел»[12 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 4. С. 256–257.] (Разр. моя. – В. П.)
Я выделил фразы, которые подчеркивают неуверенность Гоголя; он хочет как можно осторожнее сформулировать мысль и оправдаться, но не получается. Смех, который Гоголь защищает, не смех патологический, болезненный, не «привычка все осмеивать», это не тяжелый, все уничтожающий смех, но и не поверхностный, не смех как развлечение или забава, не смех легкий, а смех светлый, которому по силам задача озарять собой и примирять все достойное осмеяния. Смех – это свет, не общее освещение, а точно направленный луч, который проникает во тьму… хотелось бы верить. Но что он, собственно, освещает? Ведь все та же чудная морока, рассеиваясь, открывает мир невиданных чудовищ и уродов, застывшую картину мертвой природы. Гоголь, возможно, и желал светлого смеха, но не смог овладеть им. Впрочем, допущена неточность: Гоголь определенно обладал великолепным чувством, но только одной модальности смеха – скатологической. Гоголь лишен чувства «тонкого, пристойного юмора», он и не сатирик, скорее скатологист высшей пробы, «ругатель» и обзывала; в его стиле нет и в помине ничего от трансцендентализма романтической иронии; да он просто неспособен к ней, ведь он «примитив», мифограф, комик, бессознательный лицедей, притворщик, мим, которому чужда всякая рефлексия, оглядка на возникший образ и его оценка. Правда, эта способность теряет силу, как только сталкивается с материей смеха – внезапно обрывающийся на пороге жути смех.
Итак, с одной стороны, смех светел, но с другой – его сила в том, что он представляет всякие мелочи и случайности жизни, людей и вещи в таком ярком свете, что один их вид вызывает у нас «содрогание», настоящий ужас (да, кто может выдержать такое освещение?). Гоголевский смех не имеет вариаций и развития, он ни мстительный, ни торжествующий, ни черный, ни красный, ни белый, ни радостный, ни горький… он никакой, в нем угадываются силы первоначального хаоса. Смех ни над чем, смех «без причины», смех всеобщий, – что-то от первоначального ужаса.
«Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотом по сердцу, по жилам… так страшно отдался в нем этот смех!»[13 - Гоголь Н. В. Собрание сочинений. Том 1. («Страшная месть»). С. 174–175. См. также: Ремизов А. Сны и предсонье. («Огонь вещей»). СПб.: Азбука, 2000; а также: Терц А./Андрей Синявский. В тени Гоголя. М.: Аграф, 2001. C. 104–105.].
Смех, будто обрушивающий мир в ничто, из которого его не вернуть в первоначальной целостности. Писатель – колдун, добрый и злой, он владеет миром через смех и страх (испуг), ловко манипулируя их истинными причинами. Даже маски колдуна недостаточно, чтобы отразить весь ужас, который сопровождает гоголевский смех. Этот смех поистине первозданный, скорее подземный, сотрясающий земное смех Тартара, чем олимпийский. Гоголь мастерски оперирует различными смеховыми приемами, но они лишь повторяют друг друга и остаются безразличными к иным модальностям смеховой субстанции (например, к иронии или сарказму)[14 - Достаточно сравнить гоголевский «физиологический» смех с культурой смеха и комического, развернутой Жан-Полем Рихтером в «Приготовительной школе эстетики», чтобы убедиться в том, насколько романтическая ирония отличается от образцов чистого юмора. Гоголь – чистый юморист, поэтому для него и нет никакой особой позиции, куда бы смех не смог проникнуть, как если бы был возможен наблюдатель, способный все делать смешным, но самому остаться вне действия смеха. Ироническое снижение и игра в превосходство того, кто рассказывает, над тем, кто слушает, Гоголю чуждо, у него нет иронической утонченности. Гоголевский рассказчик не в силах совладать со смеховым происшествием, он так же поставлен в тупик, как и персонаж, которого он изображает, беря «характер» в столь гиперболическом масштабе. Смех поражает и его.]. Очередной приступ смеха сопровождается нарастающим чувством страха, смех едва прикрывает собой испуг, стыд перед возможным разоблачением, словно смех обнаруживает греховные помыслы, стоит даже перекреститься и сказать: «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!». Грех уже в раскрытом смеющемся рте, ибо раскрытый рот (как учили древние) – явление сил хаоса[15 - Мифема «разинутый рот» обсуждалась в исследованиях М. Бахтина: «Но самым важным в лице для гротеска является рот. Он доминирует. Гротескное лицо сводится, в сущности, к разинутому рту, – все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны» (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. C. 343).].
Вероятно, именно этот смех так напугал А. Белого. В письме к Мейерхольду, в котором он всячески поддерживает сценическую интерпретацию «Ревизора» (1926), Белый дает наиболее полную оценку гоголевского смеха: «Где это у Гоголя тот “здоровый веселый смех”? Разве что в первых рассказах из “Вечеров”, где этот веселый смех фигурирует откровенно, наряду с откровенно фигурирующею чертовщиною; уже к концу первого периода чертовщина, так сказать, втягивается в натурализм, поглощаясь им, но ценой превращения “натурального” смеха в такой “рев ужаса” перед увиденной дичью тогдашней России, от которого не поздоровится; сам Гоголь в одном месте, говоря о смехе, выражается: “Загрохотал так, как если бы два поставленных друг против друга быка заревели разом”. И этот рев, грохот хохота, в иных местах громок, как судная труба; так что не знаю, что ужаснее: “Вий” и отплясывающий тут же гопака козак или какой-нибудь Аммос Федорович, без всякого Вия и прочих чертей. Так что все попытки Ваши к остранению “Ревизора” в направлении к реву хохота-грохота лишь выявление самого Гоголя. И это дано у Вас постановкою великолепно; плакат с объявлением о приезде чиновника, дьявольская скачка по залу вплоть до горячечной рубашки и прочих мелочей – все повышает конец “Ревизора” до грома “апокалиптической трубы”. Этого и хотел Гоголь; Вы лишь вынимаете Гоголя из ваты, в которую он должен был обвернуть громоподобное действие, чтобы в николаевской России вообще было возможно гоголевское слово; Гоголь прибеднивался простачком, чтобы горький отравленный режущий смех обернулся бы в видимость только “смеха”. Вся эта линия – линия пресуществления смеха и только смеха в пророческое слово Гоголя, встряхивающее, убивающее, – вся эта линия безукоризненна в Вашем “Ревизоре”»[16 - А. Белый – В. Э. Мейерхольду. Москва, 25 дек. 26 года. – Мейерхольд В. Э. Переписка. 1896–1939. М.: Искусство, 1976. C. 257.]. Вот этот особый смех, смех гибельный и разрушительный, мир, входящий в последний приступ распада, «последний смех» резонирует с разнообразными оттенками смеховых ситуаций, которые лишь множат один и тот же эффект абсурда.
* * *
А между смехом и страхом – что?.. То, что их соединяет и что делает их неразличимыми в гоголевском нарративе, это скука. Все собранные Гоголем анекдоты, и ставшие ныне литературой (отдельными произведениями), все они – эмблемы скуки. Скучное – свидетельство пассивного бытия (субъект, буквально тонет во вневременном разрыве, в который заброшен). Как только наступает скука, время становится пустым, ничто уже не может случиться. Развеять скуку – это вернуть времени как экзистенциальной длительности свойственную ей активность, вновь заполнить событиями. Когда рассказывается анекдот? Да тогда, когда исчерпано содержание разговора, общение перестало удовлетворять, «все скучают». Вот тут и появляется анекдот, он наполняет бессодержательность разговора мнимым содержанием и остротой, создает ложный эффект интереса, «вовлеченности» не в то, о чем говорят участники разговора, а в то, что сразу может стать понятным, и вместе с тем нисколько их не затронет, не потребует напряжения чувств и мысли, напротив, позволит расслабиться, прибавит уверенности, развлечет, рассмешит. Анекдот – это разновидность сплетни, обретшей литературную форму, его моральная форма безлична, это происшествие, отрицающее смысл событий, о которых рассказывается[17 - Розанов это хорошо видит: «План “Мертвых душ” – в сущности, анекдот; как и “Ревизора” – анекдот же. Как один барин хотел скупить умершие ревизские души и заложить их; и как другого барина-прощелыгу приняли в городе за ревизора. И все пьесы его, “Женитьба”, “Игроки”, и повести, “Шинель” – просто петербургские анекдоты, которые могли быть и которых могло не быть. Они ничего собою не характеризуют и ничего в себе не содержат. Поразительная эта простота, элементарность замысла; Гоголь не имел сил усложнить плана романа или повести в смысле развития или хода страсти – чувствуется, что он и не мог бы представить и самых попыток к этому – в черновиках его нет». (Розанов В. В. Уединенное. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 317).]. Можно «умереть от скуки», когда не о чем писать, когда нечего делать, и надобно хоть какой-нибудь анекдот, чтоб включить машину письма, заставить время вновь наполниться содержанием. Смерть как средоточие скучного, – абсолютной скуки. Отсюда просьбы и поручения Гоголя к своим корреспондентам рассказывать о том, что происходит – анекдоты, «случаи», поговорки, происшествия – все может пойти в дело, а уж он-то все сделает для того, чтоб его читателя/слушателя разбил смеховой паралич. Чтобы не скучать, чтобы было интересно. «Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце. Да и везде недурно нашпиговать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз»[18 - Переписка Н. В. Гоголя в 2 т. М.: Художественная литература, 1988.]. Должно быть жутко смешно, должна наступить жуть от смеха, мы должны смеяться до жути, перейти предел, когда уже не до смеха. Страх и смех балансируют на краях пропасти, куда свалилось время, охваченное скукой. Вот почему комика, и – шире – комическое – след пустого времени, оно заполняется невероятными происшествиями, имитирует ход реального времени событий, но ничто не изменяется, все остается неподвижным. Не удается скрыть страх перед ничто, который таится в скуке, страх перед застывшим временем жизни…
Но вот неожиданно точный комментарий самого Гоголя к первой части «Мертвых душ»:
«Идея города. Возникшая до высокой степени пустота. Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все это возникло из безделья и приняло выражение, смешное в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей. /…/ Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая сокрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной? не страшно ли великое она явленье? Так слепа… жизнь при бальном сиянии, при фраках, при сплетнях и визитных билетах. Никто не признает… /…/
Весь город со всем вихрем сплетен: прообразование бездельности жизни всего человечества в массе. Рожден бал и все соединения. Сторона славная и бальная общества. /…/
Как низвести всемир[ные] безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?»[19 - Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 545.Вот комментарий В. В. Розанова: «Удивительно, до поразительности удивительно, как эта черновая запись, брошенная Гоголем в корзину и вытащенная оттуда Тихонравовым, не только до глубины выражает, но и до подробностей очерчивает ту картину, над которой мы плачем сейчас. О, наш пророк с «незримыми» его «слезами»; о наш вещун! Не об одной России он плакал; особенность его странной и никем никогда неразгаданной (и источниках) печали быть может лежала в том, что рок указал ему быть Иеремиею не руин своего времени, своего отечества, но культуры европейской, но цивилизации… христианской». (Розанов В. В. В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов. М.: «Республика», 1995. С. 56)].
Вихрь бала, «все летит и улетучивается в быстром галопаде», также вдруг и неизвестно откуда – вихрь сплетней, что окутывают город, оба эти вихря точно выражают подлинный смысл всеобщего безделья как особого рода умения получать удовольствие из скуки, из ничегонеделания. Но за поверхностью этих ложных явлений жизни то неподвижное, пустое, что оказывается прообразованием[20 - Это гоголевское «словечко».] смерти, победившей жизнь и все живое, – царство мировой скуки.
Игра без правил. Отмена целого пласта реальности, который в повествовании является обязательной рамкой для временных знаков события[21 - Не реальность в физическом смысле слова, а образ реальности, хотя и чисто условный, но с которым соотносятся все высказывания о «реальной» реальности. Ср.: «У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность как она есть вокруг нас. Я даже не могу заговорить ни о чем, кроме того, что близко моей душе». (Вересаев В. Гоголь в жизни… С. 354.)]. Однако событий нет, только происшествия. Очередное происшествие языка… и взрыв смеха, какой иногда испытываешь в качестве свидетеля трагикомичных уличных сценок: сначала пугаешься, а потом смеешься, если все обошлось и никто не пострадал, а ты сам отделался легким испугом. Смех не столько чередуется с испугом, он и есть выражение испуга, – предвестника будущего ужаса, освободиться от которого можно опять-таки лишь смеясь. Смех, вытесняя смысл, становится свидетельством происшествия… Принцип: то, что не должно случиться, то обязательно случится, – разве это не повод для смеха? Происшествие – не событие, а общее имя для всего невозможного и чудного. В происшествии объединены свойства случая и чуда, например, «чудесное происшествие (или приключение)». Происшествие сполна проявляет стихию исторического, внезапно вторгается в монотонную, «спящую» повседневность природного бытия, оживляя скрытые конфликты. Происшествий не ожидают, они со всех сторон и нигде, они столь часты, что отыскать их причину невозможно, их признают, они шокируют, им удивляются. В отличие от события происшествие не имеет внутренней меры времени – длительности – и исчерпывает свое содержание в каждом моменте проявления. «Вот так это и случилось… (и ничего не поделаешь)!» – всякая событийная интерпретация выглядит излишней. Реальность же предстает как случай. Вот почему мы настаиваем: явление гоголевского персонажа – это «несчастный случай», accident. Литература Гоголя – парад происшествий, все в первый и последний раз. Гоголь как сценограф: не рассказывает, а показывает, мимически точно, театрально представимо. Поскольку происшествие случайно, оно не может не удивлять, и если нет иного контакта с реальностью, кроме случая, то и сама реальность предстает как одно происшествие. Если сходные обстоятельства повторяются, то жди обязательно: что-то случится; если же это что-то и происходит, то всегда неожиданно, т. е. потому, что не должно было случиться. Ожидание тревожно, испуг внезапен и благотворен, он хотя бы на время освобождает от тревоги, давая возможность посмеяться над ней. Да ведь и «истории» нет, – для этого понадобилось бы ввести мотивы, установить причинные связи, наделить повествование моральной формой, что потребовало бы критической рефлексии, и, как следствие, заставило бы искать смысл в собственном литературном деле. Гоголь – подлинный творец абсурда[22 - См. подробнее: Бушуева М. «Женитьба» Н. Гоголя и абсурд. М.: ГИТИС, 1998.]. Абсурд – это выход образа за собственные пределы. Но что это за «выход»? Выход за пределы – но это не гипербола, не другой троп, т. е. не просто преувеличение, – допустим, чрезмерное и надуманное, но все-таки совместимое с границами образа, – а полное его разрушение. Переход к восприятию непредставимого, ни с чем не соотносимого, иначе говоря, лишенного всякого смысла, – вот когда, действительно, становится смешно. Смех убивает нас судорогой, «вздрогом», как уточнял А. Белый.
Из всех теорий смеха только теория комического А. Бергсона может послужить основой для выяснения особенностей гоголевских смеховых приемов. Правда, сразу же надо внести некоторые уточнения. Следует различать смех (определенная реакция на смешное), комическое (то, что может вызвать смех) и смеховую ситуацию (то, что вызывает смех). Комическое – наше представление о том, когда и по поводу чего мы смеемся, осталось бы неясным без внезапно возникшей смеховой ситуации. Ведь ситуативность определяет начальные условия смеховой реакции. Необходимо описание места(сцены), оценка продолжительности того, что и как происходит (время), и что из происходящего и какую требует реакцию, насколько спонтанную (интенсивность) и прочее? Ирония, гротеск, карикатура, шарж – все приемы, которые позволяют несмешное делать смешным (все может стать смешным). Гоголь использует иную, чем в сатире или гротеске, миметическую технику; он не над и не внутри, а скорее вне; его персонажи, все эти невероятные куклы-чудовища, не откликаются ни на какое подражательное движение, исходящее от автора, они не отражают, а поглощают миметическое. Но что значит поглощать миметическое? Допустим, что универсальной причиной смеха, по Бергсону, всегда является природная косность, ставшая автоматической[23 - Ср.: «Причина комизма здесь одна и та же. И в том и в другом случае смешным является машинальная косность там, где хотелось бы видеть предупредительную ловкость и живую гибкость человека» (Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. С. 15).]. А это значит, что там, где ожидается живое движение, реакция или порыв, мы находим остановку, некий обрыв или каталептический транс (уверенная поступь сомнамбулы в лунную ночь – пример такой косности). Следовательно, мы смеемся над тем, что лишено достаточной гибкости и свободы, достаточной миметической силы, чтобы избежать поглощения косным автоматизмом омертвевшего. Смех усиливается, если все попытки совершить управляемое движение оказываются тщетными. Ведь привидения, монстры, вампиры и вурдалаки, серийные убийцы и молчание ягнят, летающие ведьмы и дети кукурузы – весь этот практически неисчислимый ряд персонажей-двойников – инициирует вселенский «громоподобный» смех, которым объявляется ужас существования.
Истинный смех, или смех, который не принадлежит никому, если угодно, дзенский смех, это смех, рожденный из условий абсурда, и он – единственный выход. Это вовсе не значит, что причиной смеха может оказаться некая особая ситуация (как бы она ни казалось смешной). Конечно, смех, чтобы распространиться и заразить собой, нуждается в завершенности смеховой ситуации (наборе всех необходимых условий), но истинной причиной останется все же та, которая ничем не определяется и ни в чем не может быть выражена, – смеюсь в силу абсурда (нет повода для смеха, но смешно). По природе своей юмор ближе к реакции на абсурд (на нелепости, «чудности» ситуации); он всеобщ, не локален и не субъективен, он – «смех без причины». Юморист – чаще не субъект юмора, а объект, носитель скрытой силы абсурда, ведь ею пронизано повседневное бытие; поэтому заразительно смешным будет то нечеловеческое, что пытается представить себя человеческим[24 - Главное упущение достаточно систематичного обсуждении В.Я. Проппом тем юмора и комики – в предположении, что смех может вызываться произвольно и независимо от условий (т. е. от некой ситуации), как будто в мире есть что-то смешное, и что существует независимо от того, будем ли мы смеяться над чем-то или нет. Отсюда, и следуя за Бергсоном, Пропп начинает перечислять возможные причины смеховых ситуаций, которые, конечно, можно дополнить, но они настолько субъективно ограничены, что не могут служить основанием для понимания природы смеха. Все исследование останавливается на пороге анализа смеха-над без перехода к смеху-без-причины, мировому, возникающему безотносительно к пожеланиям смехового субъекта. Если и есть некое смеховое начало, чуть ли не субстанция смеха, которой мы все должны быть приписаны, то уж во всяком случае, она не может принадлежать нам. Наш смех не имеет достаточной причины, чтобы стать смехом всеобщим. (Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976).]. Иногда смех является следствием осознания безысходности, той абсурдной ситуации, в которую ты заброшен…
* * *
Разное отношение к Гоголю как комику и миму. Но к двум крайним взглядам я бы отнес, с одной стороны, «наивность» проф. Ермакова, с другой – «прожженность и сарказм» проф. Набокова. Первый пишет: «Гоголь проводит четкую границу между неорганическим (скоморох) и органическим смехом, другими словами, между частичным (“беспутный”) и всеобщим (смеяться сильно над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего)»[25 - Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин, Гоголь, Достоевский. М.: Новое литературное обозрение, 1999. C. 201.]. Второй же вообще ставит под сомнение смеховое начало у Гоголя: «Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе»[26 - Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: «Независимая газета», 1996. С. 52.]. И далее: «Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргорода” – о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках»[27 - Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: «Независимая газета», 1996. С. 53.]. И это «пишется» после гоголевских гримас Розанова. Ермаков-психоаналитик допускает, что Гоголь-пациент может управлять собственным заболеванием достаточно искусно, и даже «заиграться в болезнь». Вот почему важно не то, что Гоголь говорит о себе, а те причины, которые заставили его так говорить. Сколько бы Гоголь ни пояснял природу собственного смеха, и ни идеализировал ее, понятно, что этот смех не относится к миру с добродушной иронией, но он не является и смехом мщения или уничтожающим смехом. Этот смех рождается из абсурда гоголевских словечек и положений, и поскольку особенности изображения настолько невероятны, нелепы, что скорее пугают, чем действительно смешат. Каждое словечко – «происшествие», а раз так, то говорить о какой-то разумной силе, которая якобы управляет гоголевским смехом, не приходится. Гоголь – чистый комик, он всегда смеялся смехом бессмысленным. И смешил до тех пор, пока смешное не теряло связь с породившей его ситуацией. То, что действие гоголевского смеха продолжается до сих пор, определяется не тем, что сохраняются прежние условия смеховой ситуации (что и сегодня в жизни полным-полно «Хлестаковых» или «Городничих»). Напротив, как раз именно потому, что гоголевский смех безотносителен к ситуации, в которой рожден, и делает его универсальным феноменом, вне времени и места… Лучший читатель Гоголя бьется, ослепший от слез, в смеховых конвульсиях, как будто его насильно щекочут или пытают слабым электрическим разрядом; говорить о других вариантах чтения не приходится.
2. Произведение из хаоса
Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ».
Н. Гоголь
В метафизике искусства, развитой немецкими романтиками, противопоставление произведение (Космос) – природа (Хаос) оказывается тонко расчлененным предметом мысли[28 - Обращение к идеям немецкой романтической традиции (Ф. Шлегелю, С. Кьеркегору, Ф. Гельдерлину, И. Герресу, Ф. Баадеру, Жан-Поль Рихтеру и философии Шеллинга) вызвано стремлением еще раз определить насколько полно литература Гоголя отражает универсальную онтологию романтического, насколько эта литература становится литературой благодаря именно романтическому переживанию, какие категории, понятия, представления или идеи оказываются для нее регулятивными и направляющими, независимо от того, сознаются они или нет? Мы опускаем вопрос о прямых заимствованиях и подражании (см., например, важные работы академика В. Виноградова).]. Древние греки видели в хаосе нечто бесформенное, часто внезапное и катастрофическое проявление природных сил и противопоставляли его Космосу. Хаос – первоначальное состояние всего того, что еще не получило или только что потеряло форму (ср.: «погрузиться в хаос»). Это сама Природа, в своей первозданности. Сначала был хаос, и не было ни неба, ни земли, первоначальное состояние сил природной материи, до-или-постчеловеческое. Хаос – бездна, что «шевелится под ногами»[29 - Ср. также: «Хаос – позднейшие объясняют его как пустоту или даже как грубую смесь материальных стихий – это чисто умозрительное понятие, но не порождение философии, которая предшествовала бы мифологии, а порождение философии, которая следует за мифологией, стремится постичь ее и потому выходит за ее пределы. Лишь пришедшая к концу и обозревающая с этого конца свои начала мифология, стремящаяся объять и постичь себя с конца, только она могла поставить хаос в начало» (Шеллинг Ф. В. Сочинения в 2 т. Т. 2, М.: Мысль, 1989. С. 190).]. Романтический гений представляет себе хаос несколько иначе, не как что-то беспорядочное, но как форму форм или абсолютную форму, по определению Шеллинга: «…ибо универсум есть хаос как раз вследствие абсолютности формы, или вследствие того, что каждое особенное и в каждую форму вложены опять-таки все формы и тем самым абсолютная форма»[30 - Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966. С. 89.]. В созерцании абсолютного и рождается представление о хаосе, т. е. как явление хаос принадлежит области творящего мир созерцания. В таком случае нет бесформенного, противостоящего форме, а есть лишь бесконечность самой формы. Романтическое переживание – это переживание бесконечного, и оно хаоидно по определению, ибо хаос само условие (даже принцип) созерцания вечных форм. Романтическое произведение проникается силами хаоса, они участвуют в его строе, отчасти или временно им поглощаются, но хаос не перестает также противостоять любой форме, участвуя в ее создании; форма же, в свою очередь, испытывая напряжение, которое привносят в нее силы хаоса, продолжает развиваться; все в движении, ничто не покоится, все хаотирует, приобретая форму, тут же ее теряет. Что же это за силы? К ним следует отнести, естественно, с оглядкой на поздних романтиков, литературный «примитив» и мифографию Гоголя следующие пары: силы расширения (высоты, широты, дали, быстроты) и сужения (распада, омертвения, окаменения, сжатия), влечения (радости, восторга) и отталкивания (страха, ужаса, отторжения, неузнавания). Одни силы активные, «творящие», другие реактивные, пассивные. Два образа хаоса: позитивный, когда он переживается как природное сверхизобилие, источник всех энергий и форм жизни, как даль, широта и быстрота охвата всего того, что чувствуется, помышляется или представляется; негативный, когда он – сила, грозящая небывалым опустошением, утратой формы, истощением, погружением во мрак и ужас, и нет больше выбора в объектах чувственных переживаний. Гностический знак падшести природы – хаос – предстает как негативный образ бесконечного. Конечно, негативно переживаемая бесконечность не имеет ничего общего с позитивной, которая открывает для романтического субъекта, воображающего себя бесконечным, горизонт фихтеанского «я». Субъект ничем не ограничен и способен, бесконечно ускоряясь, пробегать грани любого фантастического образа. В каждой точке романтического пространства, в каждом мгновении мы найдем это «я», или то, что романтики назвали «самостью», Selbstheit. Это «я», умноженное в своих «неземных» измерениях, своего рода духовный эквивалент мира.
Романтическое эго имеет достаточно сложное строение, ведь оно должно быть одновременно бесконечным и конечным, чтобы открылась возможность разрешить апорию созерцания (бесконечное может созерцаться только тем «я», которое, будучи конечным, в основе своей является бесконечным). Шлегель включает в состав романтического чувства «я» инстанцию пра-я, которая поддерживает притязания «я» на мир и содержит в себе опыт бесконечного. Все же то, что является или может быть представлено как внешнее, есть противо-я, которое, в свою очередь, постигается в качестве возможного «ты» (хотя природа и природные вещи остаются внешними, тем не менее их познание на основе духовной структуры я/пра-я возможно). Эго – это идеальная форма ловушки, устроенной романтиком силам хаоса. Но вот что нужно иметь в виду при анализе романтического миросозерцания: романтическое «я» везде «как дома», т. е. не допускает существование внутри эго-инстанции каких-либо форм не-я, непереводимых под патронат «я»[31 - Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 2. М.: Искусство, 1983. С. 154.]. С другой же стороны, отрицательные силы хаоса подавляют, разлагают, всасывают в себя позитивную энергию и, естественно, исключают романтического субъекта из игры бесконечного. Шеллинг указывает на двуначальность человеческой (читай, романтической) природы. Два центра, смещающиеся и расходящиеся: темнота (тяжесть) – свет (легкость). Одно в другом, из тьмы рождается свет, но свет не в силах преодолеть тьму, она хоть и в остатке, но всегда действенна и неуничтожима, лежит в основании света как базовый тварный элемент. Хаос как солнечный диск световых, кипящих сил бесконечного, как энергия-плюс, и хаос как черная точка, пятно, дыра, как энергия-минус; хаос, одаривающий игрой сил и свободных энергий, и хаос, извлекающий ее, поглощающий; первый рождает формы, второй их уничтожает[32 - Ср.: «На поздней стадии романтизма хаос – это образ и понятие негативные, и сам хаос темен, и дела его темны. У ранних романтиков все можно получить из рук хаоса – и свет, и красоту, и счастье, для поздних хаос все отнимает и ничего не возвращает». (Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л.: Художественная литература, 1973. С. 37, С. 38.) Исторический аспект не выглядит в данном случае обоснованным, как на это надеялся Берковский. Романтическое понятие хаоса двойственно и не делится сначала на черное, потом на белое без остатка. Можно говорить о различных видах настроенности в ранней или поздней романтике, но понятие хаоса (как понятие) включает в себя эти моменты историчности как снятые, или вытесняемые.]. Триадическая структура инстанции романтического эго – «противо-я»/«я»/«пра-я» – соответствует состояниям хаоса: позволяет романтику управлять образцами хаотического.
Но что такое центр в романтическом опыте? Это всегда точка, пункт, точка зрения (вид или перспектива), включенная в круг, так как всякий центр есть отношение к тому, что вне центра, к тому, что находится на периферии. И вот мы видим геометрию двух хаосов, двух начал: точка в центре круга. «Всякое существо во вселенной есть центр, который воспринимает все радиусы, которые идут к нему извне от всего прочего с удаленной в бесконечность окружности его, воспринимает столько радиусов, сколько способен воспринять»[33 - Баадер Фр. Из дневников и статей – Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987. С. 532–533.]. Интенсия сжатой в точку энергии и экстенсия в виде мгновенно расширяющегося круга. Свертывание и развертывание; первое уходит в темные слои «пра-я», во внутренние измерения «я», второе взрывается и распространяется с быстротой света, на мгновение озаряет изначальный мрак; нехватка и избыток бытия. Гармоничное равновесие сил в романтике достигается возможной экспансией точки из центра на периферию круга, с обязательным возвратом на прежнее место. Периодичность возврата неизменна. Точка пульсирует, ее взрывная динамика усмиряется глубинной безосновностью тварного бытия, вероятно, чем-то схожего с «черной дырой». Иначе говоря, в теории двух начал, присущей романтическому миросозерцанию, действуют и два рода сил: силы взрывные, освещающие, светлые и силы кристаллизации, оцепенения, подавления, тяжести; яркое и светлое всегда прослоено, начинено темными пятнами, темное покрыто светящимися точками. Но это, однако, не простая дихотомия, учреждающая разделение сил светлого и темного, мрака и света и их смешение. «Без предшествующего мрака нет реальности твари; тьма – ее необходимое наследие»[34 - Шеллинг В. Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 109.]. Два центра силы, темный и светлый[35 - Ср.: «Так вообще я, индивидуальность, есть в самом деле базис, фундамент или естественный центр каждой тварной жизни; однако, как только она перестает служить центром и властно выступает на периферию, в ней загорается злобное танталово себялюбие и эгоизм (возгоревшегося Я). О превращается
, а это означает: в одном-единственном месте планетной системы замкнут, латентен темный центр природы, и именно поэтому он в качестве носителя света служит проникновению высшей системы (излучению света или открытию идеального). Поэтому, следовательно, это место есть открытая точка (солнце, сердце, глаз) в системе – а если бы и здесь поднялся или открылся темный центр природы, то eo ipso погасла бы светлая точка и свет стал бы в системе тьмой или погасло бы солнце!». (Шеллинг Ф. В. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 115).]. Речь идет не о круге, а о сфере, точнее, о двух сферах, поддерживающих друг друга и различающихся по отношению к первоначальной неразличимости ничто, подлинной основы без-основного и неразличимого в себе Un-grund (Я. Беме).
Если мы теперь обратим внимание на наиболее повторяющиеся гоголевские образы, то заметим, насколько они точно следуют формальной онтологии романтического. У Гоголя обнаруживается сфера Анти-Земли (Небо), воздушная, бестелесная, распространяющаяся в даль и в широту; сфера Анти-Неба (Земля), концентрирующаяся в неподвижности и тяжести. Романтический субъект обретает свою динамику на границах эти двух сфер; точка – это его местопребывание на переходе от взрывной экспансии, расширения, к последующей концентрации и сжатию. Так сжимается сердце, сужается в точку горизонт, обездвиженное, цепенеет тело – время страха; или, напротив, расширяется, распахивается, сбрасывает тяжесть – время радости и полета. Вражда и любовь. Не отсюда ли то значение, которое придается мгновению? Ведь только оно имеет смысл в человеческом существовании, ни прошлое, ни будущее; сквозь мгновение прорывается бесконечное.
Романтического гения отличает томление, тоска по бесконечному; он всегда готов к встрече с бесконечным, как бы оно не представало перед ним, в виде ли грез, сновидений, кошмаров или чуда. Эта готовность переходит и на стилистическое своеобразие письма[36 - Значение мига и мгновения в романтическом поэзисе трудно переоценить. Ср., например: «…он (романтик) превращает каждый акт мысли в связную речь и каждое мгновение в исторический момент, он пребывает в каждой секунде и каждом тоне, и находит его интересным. Но он делает еще и более того: каждое мгновение превращается в одну точку конструкции, и как его чувство движется между сжатым “Я” и экспансией в космос, так каждая точка одновременно круг и каждый круг – точка». (Schmitt Carl. Politische Romantik. M?nchen und Leipzig, 1925. S.109). Но особенно богатый материал мы можем найти у С. Кьеркегора, где тема экзистенциальной временности разрешается в соотношении мгновения и вечности. (См. разбор темы: Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem, 1995.)]. Динамика первоначального хаоса, борьба всех тенденций, следовательно, не тел, а сил[37 - Ср.: «…динамический материализм делает первоначалом не тела, но силы, то есть нечто гораздо более высокое, и только из борьбы этих сил он выводит возникновение тел, рассматривая грубое внешнее явление их как обманчивую видимость». (Там же. C. 109.)]. Естественно, что действие этих сил в границах произведения иное, чем их действие в бес-и-пред-форменном состоянии хаоса; его уже нельзя обсуждать «чисто абстрактно» и «спекулятивно» (как это делает Шлегель, ссылаясь на Фихте), отвлекаясь от наличных форм чувственности, которые ими же и вызываются. Первоначальную силу бытия, почти мистическую, романтики называли влечением (стремлением и т. п.). Хаос влечет к себе… Если ужас и страхи, что переживаются перед лицом разрушения, гибели, угрозы смерти, могут быть обусловлены происходящими событиями, то непонятно, почему к ужасному, при всем отторжении от него и антипатии, нарастает чувство влечения, подчас эротически окрашенное. Неприятие, отрицание хаоса в пользу порядка и гармонии, и вместе с тем влечение к нему. Если раннее романтическое сознание подчеркивает в томлении по бесконечному светлую сторону хаоса, то позднее – темную. Сходная чувственная сила, – жуть, чудное и жуткое – постоянно проявляет себя в литературе Гоголя. Влечение к бесконечной полноте и раскрытости, абсолютной свободе и совершенству, свету может достичь некоего предела. Вот тогда и начинается движение в обратном направлении (при котором влечение к бесконечному «замораживается»). Силы активные обращаются в силы реактивные, пассивные, нет противостояния, есть лишь следование тому, что происходит само собой, что имеет собственную цель вне творческого порыва. Томление по бесконечному, обращаясь на противоположное себе, оказывается движением к самоуничтожению, пускай даже светлая сторона еще сохраняет некоторое число иллюзий и маскирует черную дыру, которая начинает все в себя втягивать[38 - Ключевым понятием для понимания места хаоса в строе романтического произведения является томление, Sehnsucht (тоска по бесконечному, совершенству, полноте жизни и искусства). Это сложное чувство можно определить как аффект, т. е. как эмоцию с биполярным строением переживания. «Даже в человеке томление в его изначальной форме – это такое духовное распространение во все стороны и во всех направлениях, неопределенное бесконечное влечение, не направленное на определенный предмет, но имеющее бесконечную цель, неопределимое духовное развитие и формирование, бесконечную полноту духовного совершенства и завершенности» (Шлегель Ф. Указ. соч. Т. 2, М.: Искусство, 1983. С. 184).]. Вот романтический противоход, ведущий к инверсии терминов. В литературе Гоголя это влечение-к-хаосу входит в состав многих аффектов (страха, беспокойства, тревожности, мнительности, мании преследования и т. п.). Естественно, что это уже не томление по бесконечному, не искание его, но удвоение на противоходе романтического канона переживания: светлая сторона обрушивается в тьму, и тьма, как раньше, уже колдовски не играет светом, она черна, черная яма. Другой вопрос, каким образом в литературе Гоголя происходит расслоение сил влечения, замедление одних, выпадение других, усиление третьих и новое смешение? Жуть царит в «Страшной мести», «Портрете», «Вие», «Ревизоре» и «Мертвых душах», она едва прикрыта слоями юмора и комики. Влечение к хаосу видоизменяется, теперь оно не отражается в светлом смехе, не отреагируется, как говорят психоаналитики, в чудном, чудности происшествия. На «неестественную» жуть «Мертвых душ» один ответ – взрыв безрадостного, пугающего хохота. Смех как противоядие – под вопросом.
3. Представление кучи. «Первофеномен», образ и форма
Количеством и массою более всего поражаются люди.