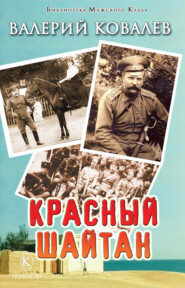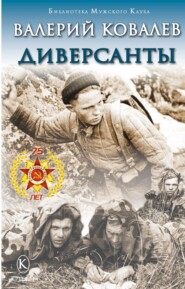По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Комдив
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Здравствуй, тетка Лукерья, брешут. Где мои?
– Так уже года два как вернулись к себе в деревню. Работы тут нема, люди с голоду пухнут.
– А там, что, легче?
– Того не знаю.
– Ну, бывай здорова, – надел на голову буденовку и направился назад.
– Вот радости-то Антону, – покачала вслед головой соседка.
Деревня, где раньше жили и куда вернулись родители, звалась Ольховка, находилась в трех верстах от города. Когда Ковалев вернулся к церкви, дед все еще стоял на площади, возясь с упряжью.
– Послушай, отец, – помог затянуть супонь, – довези до Ольховки, моих тут нету.
– Отчего ж не довезти, – сразу согласился тот. – Ты мне, почитай, жизнь спас. Мазурики[41 - Мазурики – разбойники.] непременно бы забили.
Красноармеец снова влез в телегу, дед, взгромоздившись на седелку, чмокнул «Но, милая!», повозка загремела колесами. Оставив позади центр, спустились к реке, переехали ее по старому мосту, оттуда поднялись на пригорок, за которым открылось широкое, поросшее сорняками поле, с уходящей вдаль колдобистой дорогой.
Селение, куда въехали к полудню, было в три десятка дворов, за ним светлела речка с песчаным берегом, позади которой темнел бор.
– Давай вон к той избе, – дернул кадыком Александр, указав на одну, у которой прозрачно зеленели две высоких березы. Изба была старой, но еще крепкой, огорожена жердяной оградой, из трубы на стрехе.
– Тпру! – подъехав к усадьбе, натянул старик вожжи.
Прибывший неловко выбрался из телеги (та развернулась обратно), остановился у прохода, глубоко вздохнул и направился во двор. Открыл дверь в избу, из сеней – вторую, ниже, вошел внутрь.
У печи постаревшая мать ставила в угол рогач[42 - Рогач – ухват.], за столом у окна, сидя вполоборота, отец чинил хомут. Оба обернулись, потом мать, плача кинулась к нему на грудь: «Саша, сынок!»
– Ну, будет, будет, я ж вернулся, – погладив по спине, обнялся с вставшим навстречу отцом.
– Мы уж тебя было похоронили, – стряхнул тот слезу с сивых усов. – А ты вона, как живой.
– Живой, батька, живой, – рассмеялся сын. – А где браты с сестричками?
– Левка щас должен быть, поехал на хутора прикупить сена, а девки пошли на речку за водой.
В сенях дважды бухнуло, открылась дверь, появились две худенькие босоногие девочки лет семи, с интересом уставились на незнакомца.
– Ну, здравствуйте! – сгреб их в охапку. – Я ваш брат Саша.
Девочки застенчиво отворачивались, не узнали. Ковалев, опустив, развязал стоявший на полу мешок, раздернул горловину и принялся вручать всем подарки: отцу – яловые сапоги, матери – пуховый платок, сестричкам – цветные ленты и по жестянке монпасье.
– А как Алеся? – спросил у матери. – Жива, здорова?
– Слава богу, – вздохнула та. – Но ты, сынок к ней не ходи. Вышла замуж.
– Как?! – побледнел сын. – Когда?
– В прошлом годе, – нахмурился отец. – Прошел слух, что тебя убили, она и вышла за сына Маневича – Пашку. Уже и немовля[43 - Немовля – младенец (укр.)] народилось.
Александр сел на лавку, опустил коротко стриженую голову. Мать опять вздохнула, а сестрички умолкли.
Потом во двор въехала телега, послышалось «тпру», в сенях заскрипели половицы, и в открывшую дверь, пригнувшись, ступил кряжистый Левка.
– Братка! – выпучил он глаза. Гость встал, братья крепко обнялись.
– Ну, ты и вымахал, – сказал старший, отстранившись, – меня догоняешь.
– Стараюсь, – рассмеялся Александр, – но это вряд ли.
Чуть позже все сидели за накрытым столом в другой половине дома, Левка разливал из четверти по стопкам дымчатый первак.
– Ну, со встречей, – поднял свою стопку отец. В нее звякнули еще три, выпили, стали закусывать вареной бульбой, квашеной капустой и черствым хлебом, два кирпича которого привез сын.
– Так, а где ж Яник? – спросил Александр, когда отец налил по второй.
У того дрогнула рука, мать всхлипнула, Левка тяжело уставился в стол, а двойняшки испугано замолчали.
– Забили его с двумя хлопцами тамошние мужики прошлой осенью в Коморовичах, – сказал отец. – Ночью залезли в церкву.
– Это же самосуд! – побледнел Александр.
– Тамошний поп сказал «святотатство», ну и забили, – вздохнула мать. – Так что схоронили Яника.
Все надолго замолчали, а девчушки, потихоньку выбравшись из-за стола, шмыгнули на улицу.
– Ну да бог им судья, – поднял стопку отец, – помянем.
Выпили не чокаясь (мать пригубила), братья, насупившись, задымили махоркой.
– Знаешь тех мужиков? – покосился на Левку Александр.
– Четырех забрали милицейские и посадили. А один куда-то пропал, – блеснул глазами старший.
Мать принялась убирать со стола, остальные вышли на двор, уселись рядком на призьбе[44 - Призьба – фундамент в сельском доме.].
– Отсеялись? – поинтересовался Александр, глядя на гнездо аиста на соседней хате.
– А нечем, – вздохнул отец. – Зимой наехал продотряд, выгреб у всех ржицу подчистую и увез. Такое вот, сынка, дело.
– Называется продразверстка, мать их так, – заплевал цигарку Левка и пошел выпрягать щипавшую осот лошадь.
– Я смотрю, купили коня?
– Какой купили, – махнул рукой отец, – оставил тем годом какой-то обоз, раненного. Мы понемногу выходили.
Старший брат меж тем увел буланого в крытый камышом бревенчатый сарай и, прикрыв дверь, вернулся.