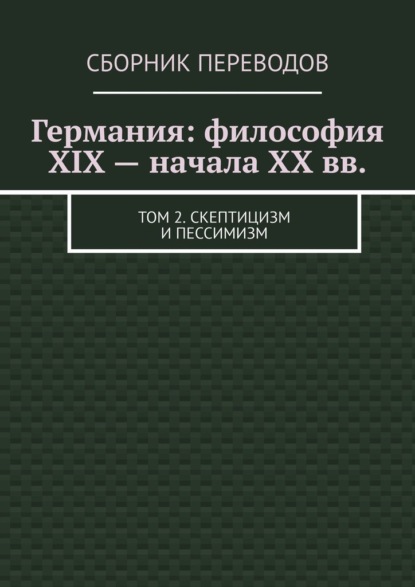По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Том 2. Скептицизм и пессимизм
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ответ на этот упрек состоит в том, что скептик, рассматривая природу истины и видимости, исходит из того, что говорит о них человеческая природа, и не способен к дальнейшему доказательству, поскольку всякое доказательство действительно лишь в той мере, в какой то, что предполагается принадлежащим природе истины, встречается среди составляющих его элементов. Но поскольку эта предпосылка является лишь стандартом для суждения об истинности нашего знания, ей не противоречит признание того, что всякое человеческое познание лишено того, по чему можно установить его истинность. Скептик также не отрицает, что определение истины и видимости, на котором основаны его сомнения, сформулировано в соответствии с положениями человеческой природы, и поэтому он приписывает этим сомнениям обоснованность только для человека (см. §34).
(47) Но хотя всегда можно сказать, и это уже не раз говорилось, что скептицизм побеждает в борьбе с догматизмом и может быть ранен последним в единственную точку, его мудрость невежества не может быть принята за нечто ценное. Ибо если бы эта мудрость стала руководящим принципом жизни, то человеческой природе был бы нанесен непоправимый вред, так как все, что иначе влияет на деятельность человека, что способствует его истинной жизни и развитию его талантов, должно стать неэффективным; тогда как догматизм, при всех его недостатках, гораздо более соответствующий человеческому образу мышления, имеет ту заслугу, что он пробудил и упражнил человеческую рефлексию и вывел на свет многие скрытые истины. Поэтому скептицизм отнюдь не так безвреден для целей человеческого существования, как это принято считать, и не может быть безвреден только потому, что человек отвергает то, что он, как философ, считает вершиной всей мудрости, и, следовательно, не соглашается с самим собой.
Для того чтобы правильно оценить справедливость этого обвинения, достаточно привести следующее, хотя и краткое, освещение взаимосвязи между догматизмом и скептицизмом и естественными убеждениями человека.
(48) Прежде чем человек стал философом, он был человеком, и прежде чем он попытался разгадать загадку мира, он уже жил в нем, используя свои силы. Но для человеческой жизни необходимо отличать истинное от кажущегося, объективно существующее от воображаемого и быть уверенным в том, что наше сознание не играет с нами в игры, выдавая за вещи призраки. Это доверие также присутствует в каждом человеке как непостижимый голос его природы, и все убеждения, необходимые для жизни, основаны на его высказываниях.
Опираясь на эти изречения, человек верит, что он существует в мире, отличном от его «я», что то, чем он восхищается в этом мире, не было вложено в него его представлением о нем, и что в его устройстве можно распознать нечто более высокое, чем просто механизм его собственного устройства. Доверяя голосу своей природы, человек верит, что понятия добра и зла, добра и зла, в соответствии с которыми он определяет ценность всех человеческих действий и бездействий, не являются заблуждением, что его поступки не определяются принуждением естественных законов, а что ему присуща способность быть свободным автором своих действий по собственному решению и после обдумывания, и что он становится добродетельным или порочным благодаря использованию этой способности.
Имея эту естественную веру в истинное и доброе и в нечто высшее, чем является человек, но что открывается ему через мир, догматизм не думает, что может оставить все как есть, и вместо этого намеревается дать нам знание об истинном и добром. Чтобы никто не мог заблуждаться относительно устройства физического и морального мира или быть подверженным простому воображению, он хочет указать не только то, что можно понять по-человечески о субстанции, лежащей в основе всех вещей в нем, но и то, каким образом форма была добавлена к этой субстанции, а также то, что даже всеведущее существо может понять о ней.
Это стремление догматизма постичь все и превратить каждое человеческое понимание в аподиктическую [неопровержимую – wp] уверенность неизбежно приводит в своем высшем усилии к объявлению того, что непостижимый голос нашей природы свидетельствует об истинном физическом и моральном мире, не чем иным, как ложью и обманом. Ибо только таким образом все предметы в мире полностью аннулируются и сводятся к высшему единству. Он доказывает вам, согласно его собственным заверениям, исходя из высших оснований всего бытия и из конечных принципов всего знания, самым строгим образом, что каждое из ваших представлений о реальном, как бы точно оно ни было проверено законами опыта и здравого смысла, и аподиктически докажет из условий возможности познания, что человек сам создает себе всю истину и что только для притупления общего сознания, которое у человека общее с животными, существует мир, независимый от механизма движений воображения. Но чтобы сделать понятными естественные изречения совести о добре и зле, о человеческих заслугах и человеческой вине и очистить их от всяких обманов, искажающих их содержание, догматизм либо растворяет эти изречения в одних только максимах благоразумия – ибо из чувственной природы человека вполне понятно, что он стремится жить в мире вполне приятно; или выводит их из очищенного от всякого эмпиризма предписания разума, согласно которому не может быть ничего более волевого, чем простая форма воления, но затем сам ничего не признает, чтобы простить моральную философию, как аподиктически достоверную науку, что строгое подчинение законам (которые, поскольку они имеют силу закона только благодаря своей форме, предполагаются действительными и для воли сверхчеловеческих существ), необходимое для нравственного совершенства действия, нигде не встречается в человеческом роде, и что поэтому можно говорить о добродетели, но нельзя искать ее ни в одном представителе этого рода.
Скептицизм теперь направлен и против этого низведения голоса нашей природы до уровня лжи. Он не дает никаких позитивных прозрений. Но то, чем и без него человек обладает в проницательности благодаря необъяснимому доверию к голосу природы, он защищает от искажений и от всякой софистики, с помощью которой он должен был бы превратиться в заблуждение. Поэтому вы, работающие над науками, которые не относятся к спекулятивной философии, и совершенствующие их, совершенно неправильно оцениваете его, когда считаете, что он хочет оспорить правомерность вашего владения вашей собственностью. Он не хочет и не может поколебать основание, на котором вы построили себя, если вы решили ничего не понимать в том, что в свою очередь держит и поддерживает это основание. Его нападки направлены лишь на спекулятивный догматизм, который выдает свои систематизированные мечты за высшую мудрость и науку и стремится сделать человеческий разум более проницательным, перевернув с помощью диалектических ухищрений либо вещи в мире, либо естественный способ, которым он думает об этих вещах.
§ Раскрывая тайну этих хитростей и разрушая, укрепляя благоразумие, обман, который они порождают, скептицизм не только устраняет из разума все кажущиеся знания, но и заставляет лучше слышать и внимательнее относиться к естественному голосу, который возвещает о том, что действительно истинно и хорошо для человека. Он ведет человека к его истинному дому и в конце концов, то есть после полного преодоления догматизма, снова становится природой, как всякое совершенное искусство.
§50. Излагая основания, содержание и цель скептицизма, мы, между прочим, уже привели причины, по которым мы не можем согласиться с теми рассудительными и мудрыми спорщиками догматических предположений, которые считают, что что даже в скептическом сомнении в возможности всякого знания, поскольку это сомнение есть в конце концов род мышления, претендующего на истину и потому также тайно предполагающего некое безусловное или абсолютное основание, дается нечто, из чего можно непосредственно вывести необходимость веры в абсолют. Скептицизм – это, скорее, согласно нашему пониманию, замкнутое целое, которое не может вывести за пределы самого себя и той общей неопределенности, которой оно учит, и которое в своих основаниях содержит не что иное, как размышление об отсутствии необходимых условий возможности знания. Поэтому источник веры в абсолют, который выше всякой относительности, также полностью выходит за его пределы и не может достичь ничего иного, кроме того, чтобы этот источник, заложенный в сущности человеческой природы, не был неверно оценен и чтобы его оттоки не были загрязнены посторонними компонентами ни через размышления, ни через энтузиазм, что, однако, не должно означать, что он сам также возник из этого источника и поэтому ведет к нему совершенно продуманным путем.
LITERATUR – Gottlob Ernst Schulze, Die Hauptmomente der skeptischen Denkart ?ber die menschliche Erkenntnis, in «Neues Museum der Philosophie und Literatur», hg. von Friedrich Bouterwek, Bd. 3, drittes Heft, Leipzig 1805
G. В. Ф. Гегель
Отношение скептицизма к философии
[Описание его различных модификаций и сравнение новейших со старыми]
Спустя восемь лет после того, как г-н Шульце поднял шум против кантовской философии, особенно в той форме, которую она приняла в теории способности воображения, он теперь берется за теоретическую философию в целом, чтобы поджечь ее своим скептицизмом и сжечь дотла. Вся яркая группа новых скептиков по праву почитает господина Шульце как своего предводителя, и этот мешок с песком из четырех алфавитов, который господин Шульце подтащил к крепости философии, по праву обеспечивает ему это первое место.
Изложение и оценка этого новейшего скептицизма делает необходимым выяснение его отношения к философии, как и скептицизма в целом; в соответствии с этим отношением будут определяться различные модификации скептицизма, а вместе с тем и отношение самого этого новейшего скептицизма, который, кажется, поставил себя на плечи старого, и видит дальше, и сомневается более разумно, к старому; обсуждение отношения скептицизма к философии и вытекающее из него познание самого скептицизма не представляется незаслуженным, так как понятия, обычно встречающиеся о нем, весьма формальны, а его благородный характер, если он верен, в новейшее время может быть превращен в общее укрытие и оправдание нефилософии.
Во введении («Kritik der theoretischen Philosophie», Hamburg 1802) излагается история субъективного источника скептицизма Шульце; в нем содержится развитие мысли: если знание, которое должно быть получено из разума, не может получить общего и прочного одобрения, если те, кто работает над ним, постоянно противоречат друг другу и если каждая новая попытка придать этому знанию прочность науки терпит неудачу, то из этого можно сделать вывод, что вполне возможно, что субъективный источник скептицизма Шульце, который является субъективным источником его скептицизма, является общим и прочным: Отсюда можно с достаточной степенью уверенности заключить, что в основе поиска такого знания лежит недостижимая цель и заблуждение, свойственное всем его толкователям; Также на образ мыслей автора относительно философии – поскольку никого нельзя обвинить в общем недоверии к превознесению проницательности и мудрости разума – наблюдение успеха, который усилия столь многих людей, благодаря их талантам и рвению, проявленному в поисках скрытых истин, всегда имели для научной философии, оказало сильное влияние и дало ей направление, из которого возникла эта критика теоретической философии; Всякое стремление посвятить свои силы рассмотрению одной из этих систем, которая, как ему казалось, содержала в себе самый верный признак истины и определенности, вновь и вновь, как только он делал приготовления к его удовлетворению, подавлялось соображениями судьбы, которые влияли на все спекулятивные занятия конечными основаниями нашего знания о существовании вещей; Ибо его уверенность в своих способностях не заходила так далеко, чтобы дать ему надежду действительно достичь того, что тщетно пытались сделать столь многие люди, наделенные величайшими талантами и самыми разнообразными проницательными способностями.
То есть правильно сказанное народу и из уст народа. – Афинский законодатель установил смерть за политическую апрагмосину [занятость – wp] в тот момент, когда в государстве начинаются волнения; философская апрагмосина – не вставать на чью-то сторону, а заранее настроиться на то, что судьба увенчает победой и общностью, – сама по себе чревата смертью спекулятивного разума. Если бы, действительно, рассмотрение судьбы могло стать моментом в уважении и понимании философии, то не всеобщность, а, напротив, невсеобщность должна была бы стать моментом рекомендации, поскольку понятно, что самые подлинные философии – это не те, которые становятся всеобщими, и что, более того, если плохие философии получают всеобщность, то и более подлинные тоже ее достигают, причем та их сторона, которая стала всеобщей, как раз и является нефилософской; Так что даже в этих философиях, которым уготована так называемая счастливая судьба, но которые на самом деле, если мы вообще можем говорить здесь о счастливой или несчастливой судьбе, следует считать несчастьем, нужно искать не-всеобщее, чтобы найти философию. – Но если г-н Шульце видел, что успех усилий стольких людей, отмеченных талантом и рвением, в стремлении к исследованию конечных оснований нашего знания был одинаково неудачен, то это может относиться только к весьма субъективному способу видения; Лейбниц, например, выражает совершенно иной способ видения. Лейбниц, например, выражает совершенно иной способ видения в отрывке, который Якоби сделал одним из своих девизов: «j’ai trouvе quel al pl?part des sectes ont raison dans une bonne partie de ce qu’elles avancent, mais non pas tant en ce qu’elles nient.» [Я обнаружил, что большинство сект правы во многом из того, что они говорят, но не так сильно в том, что они отрицают. – wp]. Поверхностный взгляд на философские споры выявляет лишь различия между системами, но старое правило: contra negantes principia non est disputandum [Против того, кто отрицает принципы, спора нет. – wp] указывает на то, что когда философские системы спорят друг с другом – другое дело, конечно, когда философия спорит с нефилософией, – то единство заключается в принципах, которые превыше всего успеха и судьбы, не могут быть распознаны из того, о чем спорят, и ускользают от взгляда, который всегда видит противоположное тому, что происходит перед его глазами. С принципами или разумом все эти люди, отмеченные талантом и усердием, преуспели, и разница между ними заключается исключительно в более высокой или более низкой абстракции, с помощью которой разум представил себя в принципах и системах. Не предполагая провала спекулятивной истины, скромность и безнадежность достижения того, чего, как утверждает лишь поверхностный взгляд почтенных людей, достичь не удалось, отпадает; Или же, если предположить, что неудача произошла, то, если скромность и недоверие к способностям могут предоставить другой момент для соображений об успехе, а эта скромность больше, – не питать надежды на достижение того, к чему тщетно стремились люди талантливые и проницательные, – или, как, по словам г-на Шульца, случилось с ним, впасть в предположение, что какой-то наследственный дефект должен был прилепиться к философии и распространяться от одного догматического занятия ею (мы увидим впоследствии, что г-н Шульц знает только скептическое и догматическое философствование) к другому; Тот факт, что г-н Шульце считает себя обнаружившим эту наследственную ошибку и излагает то, что он обнаружил в данной работе, доказывает, что он так же мало думает о моменте скромности в философии, говорит он о нем или нет, как и о моменте успеха.
Таким образом, в этой работе обещано открытие наследственной ошибки всей существующей до сих пор спекулятивной философии; и этим открытием, касающимся существующей до сих пор философии, всякая надежда на успех спекуляции, говорит Шульце (стр. 610), отсекается и на будущее, потому что было бы глупо (действительно!) надеяться на изменение в силах человеческого познания. Но какое более счастливое открытие наследственной ошибки всех спекуляций можно предложить философствующим людям, которые либо оправдывают свое удаление от спекуляций, не нуждающихся в оправдании, спорами о философии, и делают вид, что склонны подчиниться какой-либо системе, если только философский совет или коллоквиум договорится об общезначимой философии, – либо сами бегут за всеми философскими системами (а к ним они причисляют все грибы мысли), но чья интеллектуальная химия так несчастливо устроена, что имеет сродство только с добавкой, смешанной с более благородным металлом монеты, и прозябает только с ней, которая снова и снова становится внутренней, так что ее только подражают, и наконец в отчаянии бросается в мораль, все еще с опасениями со стороны спекулятивной, – какое более счастливое открытие можно сделать для этих двух частей, чем то, что спекулятивная философия лишена самой своей сущности; Первый получает доказательство того, что он был мудрейшим, поскольку ничего не думал о спекулятивной философии; второй утешается тем, что всегда блефовал, когда вина с него перекладывается на философию, а его опасения отнимаются спекулятивной философией. Поэтому неудивительно, что этот скептицизм если и не пользуется всеобщим одобрением, то, по крайней мере, широко приветствуется, и что нынешнее увесистое [весомое – wp] отношение к нему, в частности, вызывает такую радость, примером которой является наша записная книжка.
Г-н Шульце исключает практическую и эстетическую части из своей скептической трактовки философии и ограничивает ее теоретической философией. – Судя по всему, г-н Шульце считает только теоретическую философию спекулятивной философией, а остальные ее части – неизвестно чем; вернее, нигде не видно и следа идеи спекулятивной философии, которая не является ни особенно теоретической, ни практической, ни эстетической. Кстати, г-н Шульце приходит к такому разделению философии через эмпирическую психологию, хотя сам он исключает ее из философии, но, как ни странно, все же использует ее в качестве источника для разделения философии; ибо важные различия, как утверждается, имеют место в фактах сознания, они являются либо познанием объектов, либо выражением воли, либо чувствами удовольствия и неудовольствия, к которым относятся также чувства прекрасного и возвышенного; Они не могут, насколько простирается наше понимание их, быть отнесены к одному классу или происходить из одного источника (слова, которые мы читаем буквально у Канта, Критика способности суждения, Введение, стр. XXII), но существенно отличаются друг от друга постоянными характеристиками и дают начало трем частям философии, упомянутым выше. – Только в этом г-н Шульце существенно отличается от Секста Эмпирика, который в своей «Критике отдельных частей философии и наук» не проводит деления сам, а принимает их такими, какими он их находит, и скептически нападает на них. Прежде всего, мы должны увидеть, как г-н Шульце понимает эту теоретическую философию и что на самом деле представляет собой враг, которого он побеждает. В первом разделе в высшей степени методично, на протяжении нескольких страниц, анализируются основные характеристики теоретической философии и выводится следующее определение: теоретическая философия – это наука о высших и безусловных причинах всего обусловленного, в реальности которых мы иначе уверены. – Об этой иной уверенности в обусловленности без философии мы узнаем позже. Но сами высшие и безусловные причины, или, скорее, разумные, г-н Шульце снова представляет себе как вещи, лежащие за пределами нашего сознания, нечто существующее, нечто абсолютно противоположное сознанию; о разумном знании никогда не возникает никакой другой идеи, кроме повторяемой до отвращения идеи, что с его помощью можно получить знание вещей, которые, как предполагается, скрываются за силуэтами вещей, которые представляет нам естественный способ человеческого познания; С помощью абстрактных принципов и понятий обнаруживается бытие; исследуется, чем должны быть вещи, взятые в их истинной и скрытой реальности; инструменты, которые философия использует для исследования вещей, – это понятия, абстрактные принципы, выводы из понятий, а мост к этим скрытым вещам опять-таки строится из ничего, кроме понятий. – Невозможно представить себе разум и спекуляцию более грубым образом; спекулятивная философия постоянно представляется так, как будто общий опыт, в неподвижной форме его общей реальности, расстилается перед ней непреодолимо, как ее железный горизонт, а за ним она предполагает и ищет вещи-аспект своего горизонта, как горный хребет столь же общей реальности, который несет эту другую реальность на своих плечах; Г-н Шульце не может представить себе разумное, самость иначе, чем как камень под снегом; для католика носитель превращается в божественное живое существо; здесь не то, чего хотел дьявол от Христа, – превратить камень в хлеб, но живой хлеб разума навсегда превращается в камень.
Этой спекулятивной философии, которая пытается познать вещи, якобы существующие вне нашего сознания, противостоит положительная сторона скептицизма, ибо она имеет не только отрицательную сторону, которая заключается в разрушении фантазий догматиков и их попыток получить знание о существовании гиперфизических [сверхъестественных – wp] вещей.
Положительная сторона этого скептицизма заключается в том, что он обычно описывается как философия, не выходящая за пределы сознания; и действительно, существование того, что дано в пределах нашего сознания, имеет неоспоримую определенность; поскольку оно присутствует в сознании, мы не можем сомневаться в его определенности больше, чем в самом сознании; Но сомневаться в сознании совершенно невозможно, ибо такое сомнение, поскольку оно не может иметь места без сознания, уничтожило бы себя и, следовательно, было бы ничем; то, что дано в сознании и с сознанием, называется фактом сознания; и, следовательно, факты сознания – это неоспоримая реальность, к которой должны относиться все философские спекуляции и которая должна быть объяснена и понята этими спекуляциями.
Этой философии, которая помещает неоспоримую определенность в факты сознания, и подобно тому, как наиболее общее кантианство ограничивает все познание разума (стр. 21) формальным единством, которое должно быть внесено в эти факты, нельзя задать вопрос, как она тогда понимает, что человек не удовлетворяется этой неоспоримой определенностью, которую он находит в вечном неподвижном восприятии предметов, как она тогда хочет также понять, что упорядочение восприятий происходит от этого восприятия? Как человек выходит за пределы скотского существования, которое, говоря словами г-на Шульца, состоит в восприятии реального бытия вещей, и приходит к мысли о том, что г-н Шульц называет метафизикой, о постижении этого реального бытия или о выведении этого реального бытия и всего, что к нему относится, из первоосновы, чтобы сделать его понятным? —
Эта философия фактов не имеет другого ответа, кроме прямого: что это стремление к знанию, которое лежит за пределами реального, вполне определенного существования вещей, то есть признает их неопределенными, – тоже факт сознания; г-н Шульце говорит об этом (первая часть, стр. 21) так: ибо в силу изначальной предрасположенности нашего ума мы имеем желание искать конечное и безусловное основание всего, что, по нашему разумению, существует лишь условно. Но если каждый факт сознания обладает непосредственной определенностью, то прозрение, что нечто существует лишь условно, невозможно; ведь существовать условно и не быть ничем определенным в себе – это синонимы. – Аналогичным образом автор выражается, когда переходит от звериного облика мира и его неоспоримой определенности к проблеме теоретической философии: хотя существование вещей вполне определенно согласно утверждениям сознания, это никоим образом не удовлетворяет разум (здесь мы узнаем, в чем он состоит), поскольку в случае существующих вещей не является самоочевидным, что мы знаем, что они есть и что они являются тем, что они есть. – Но как же быть с этой неоспоримой уверенностью в факте непосредственного познания бытия вещей; в реальности (p. 57), которую мы приписываем вещам, на которые смотрим, нет абсолютно никаких степеней, так что одна вещь обладала бы большей реальностью, чем другая (p. 62). Наблюдающий субъект признает объекты и их существование непосредственно и абсолютно как нечто, что существует и есть для себя так же совершенно независимо от аффектов воображения, как распознающий субъект существует и есть для себя. – Как при такой абсолютной уверенности в том, что и как вещи существуют, не должно быть в то же время самоочевидным, что они есть и что они являются тем, что они есть; в то же время утверждается одно знание, согласно которому существование и конституция вещей самоочевидны, и другое, согласно которому это существование и конституция вовсе не самоочевидны. Нельзя придумать более полного противоречия между вышесказанным и этим способом сделать поиск рационального знания понятным, а также более косного и хитрого перехода к метафизике.
Осветив положительную сторону этого скептицизма, мы переходим к его отрицательной стороне, которой посвящена вся третья часть первого тома. Сам г-н Шульце считает, что скептицизм, который приписывает фактам сознания неоспоримую уверенность, мало согласуется с концепцией скептицизма, которую дают нам старые скептики; сначала мы должны услышать мнение самого г-на Шульце об этом различии. Он объясняет его во введении и в первом разделе третьей части. Прежде всего, он напоминает нам, что часто случалось так, что человек, впервые нашедший мысль на пути истины, гораздо меньше понимал ее содержание, причины и последствия, чем другие, которые после него старательно исследовали ее происхождение и значение; до сих пор истинное намерение скептицизма в основном оценивалось неверно и т. д.
Скептицизм, который г-н Шульце считает истинным и более совершенным, чем скептицизм древних, относится именно к суждениям, свойственным философии, то есть к тем, которые, как выражает г-н Шульце конечную цель этой науки, определяют абсолютные или по крайней мере сверхчувственные, то есть находящиеся вне сферы сознания, основания того, что условно существует по свидетельству нашего сознания. Но суждения, принадлежащие только философии, не должны быть предметом этого скептицизма, ибо они либо выражают так называемые факты сознания, либо основаны на аналитическом мышлении; их истинность, следовательно, также может быть постигнута и усмотрена согласно скептицизму; с другой стороны, он утверждает против теоретической философии, что вообще ничего нельзя знать об основаниях бытия вещей, существующих вне сферы нашего сознания или, как говорит автор, не данных в нем согласно их существованию, или о вещах, существующих помимо существующих вещей. Против этого понятия скептицизма сам г-н Шульце выдвигает возражение, что, согласно ему, ничто из того, чему учит опыт, и особенно воплощение внешних ощущений, даже из всех наук, только философия (поскольку ни одна другая не имеет отношения к познанию вещей за пределами сознания) не может быть предметом скептического сомнения; тогда как старый скептицизм распространялся на оба, и самый старый, по крайней мере, на первый. Г-н Шульце, в частности, утверждает, что начало и прогресс скептицизма всегда определялись предположениями догматиков; старые скептики признают, что существует знание через органы чувств и убежденность через них в существовании и определенных свойствах вещей, существующих сами по себе, в соответствии с которыми каждый разумный человек должен руководствоваться в своей активной жизни. – Существует убеждение посредством органов чувств в существовании и определенных свойствах существующих вещей, в соответствии с которым каждый разумный человек должен судить себя в активной жизни. – В том, что такое убеждение направлено только на активную жизнь, сразу же заключается, что оно не имеет ничего общего с философией, что оно и ограниченное сознание, наполненное фактами, как принципом неоспоримой уверенности, вовсе не противостоят разуму и философии, менее всего настаивая против них, а являются лишь данью, как можно более узкой, отданной необходимости объективного определения; Мы не стали бы, говорят скептики, выбирать то или избегать этого, когда дело касается вещей, которые в нашей власти, но тех, которые не в нашей власти, но по необходимости, мы не можем избежать, как голод, жажда, холод; ибо они не могут быть устранены с пути разумом. Но сознание, связанное с этими необходимыми потребностями, старый скептик был далек от того, чтобы возводить в ранг знания, которое является объективным утверждением; внимая тому, что появляется, мы живем, говорит Сект, потому что мы не можем быть полностью бездействующими, согласно общему смыслу жизни, не составляя с ней никакого мнения или утверждения. Но в этом скептицизме не может быть и речи об убеждении относительно вещей и их свойств; критерием скептицизма, выражается Секст, является явление (phainomenon), под которым мы действительно понимаем его видимость (phantasian auton), т. е. субъективное; Ибо поскольку оно заключается в убеждении (= peisei, но не в вещи) и невольном аффекте, то никакого исследования не происходит; оно azititos [не спрашивается – wp] (немецкое выражение: Zweifel, употребляемое скептиком, всегда криво и неуместно.)
Но что скептики, вместо того чтобы приписывать ему неоспоримую определенность, объявили все восприятия лишь видимостью и утверждали, что с таким же успехом можно сказать противоположное тому, что сказано о предмете его видимости, с таким же успехом можно сказать, что мед горький, как и сладкий, – что, как утверждает сам г-н Шульце, десять первых и правильных поворотов скептиков касались только этой неопределенности чувственного восприятия, причину которой приводит г-н Шульце, что уже в самые ранние времена спекулятивной философии догматики принимали ощущения за видимость, которая, однако, основана на чем-то совершенно ином, и приписывали самой видимости соответствие с тем, что, как предполагается, находится за ней как реальная вещь, и даже часто утверждали знание через ощущения как науку о предмете, скрывающемся за ощущениями. По этой причине скептики напали на эти доктрины догматиков об уверенности чувственного познания и отрицали, что посредством объекта в ощущении можно достоверно узнать то, что, как предполагается, находится за этим объектом как истинная и реально существующая вещь. – Здесь, в отношении древних философов, выражена та же самая вопиющая концепция, которую г-н Шульце имеет о знании разума; но интерпретация, будто скептицизм нападает не на сами чувственные восприятия, а только на то, что догматики помещают за ними и под ними, совершенно необоснованна; когда скептик говорит: мед так же горек, как и сладок, и так же мало горек, как и сладок, не имеется в виду вещь, помещенная за медом. – То, что для скептиков Греции даже доктрины всех учений, претендующих на достоверность для каждого человеческого разума, были предметом сомнения, свидетельствует об их незнакомстве с истинными основаниями их сомнений; между прочим, конкретные источники знания каждой науки и возможные в ней степени убежденности не были тогда исследованы так, как сейчас; многие доктрины, которые сейчас вызывают все разумные сомнения, такие как физика и астрономия, еще не были исследованы. Физика и астрономия, например, были тогда лишь олицетворением недоказуемых мнений и беспочвенных гипотез. – Эта черта завершает характер этого нового скептицизма и его отличие от старого; кроме фактов сознания, физика и астрономия более поздних времен были бы, таким образом, науками, которые бросают вызов всякому разумному скептицизму; доктрины, которые отнимают чисто математический аспект их, который не принадлежит к их особенностям, от изложения чувственных восприятий и слияния их с понятиями интеллекта, сил, материи и т. д., в науке, которая утверждает объективность. Они заключаются в знании, утверждающем объективность и в то же время чисто формальном, одна часть которого, изложение восприятий, не имеет ничего общего с научным знанием и потому также лежит вне скептицизма, поскольку в выражении восприятия не должно быть выражено ничего, кроме его субъективности; – но другая часть которого является высшей вершиной догматизирующего понимания. Что бы сказали старые скептики на такой ублюдок скептицизма, который все еще может уживаться с вопиющим догматизмом этой науки?
Г-н Шульце приходит, наконец, к неопределенности и неполноте известий об античном скептицизме. – Правда, нам недостает более определенных известий о Пирроне, Энесидеме и других знаменитых скептиках древности; но отчасти из всего характера этого скептицизма явствует, что полемическая сторона против философских систем, которую имел скептицизм Энесидема, Метродора и последующих, отсутствовала в скептицизме Пиррона, к которому относятся десять первых тропов; отчасти потому, что в тропах Секста Эмпирика очень точно сохраняется для нас общая сущность этого скептицизма, так что всякое другое осуществление скептицизма могло бы быть не чем иным, как повторением в применении одного и того же общего способа.
В целом, однако, представления о скептицизме, позволяющие видеть его только в этой конкретной форме, в которой он предстает как чистый простой скептицизм, исчезают перед точкой зрения философии, с которой, как подлинный скептицизм, он может быть найден и в самих философских системах, которые г-н Шульце и другие вместе с ним могут рассматривать только как догматические. Без определения истинного отношения скептицизма к философии, без понимания того, что сам скептицизм тесно связан со всякой истинной философией и что, следовательно, существует философия, которая не является ни скептицизмом, ни догматизмом, ни тем и другим одновременно, все рассказы, сказки и новые издания скептицизма не могут ни к чему привести. Существенное для признания скептицизма, это отношение скептицизма к философии, а не к догматизму, признание философии, которая не является догматизмом, то есть само понятие философии, – вот что ускользнуло от г-на Шульце; и если г-н Шульце не мог вывести идею философии из философий, которые он скептически предполагает, то исторический аспект старого скептицизма должен был привести его по крайней мере к мысли о возможности того, что философия есть нечто иное, чем догматизм, который знает только он. Даже сам Диоген Лаэртий по-своему утверждает, что некоторые называют Гомера родоначальником скептицизма, потому что он по-разному говорит об одних и тех же вещах при других обстоятельствах; так же скептичны многие изречения семи мудрецов, такие как: Ничто не слишком, и: Обязанность – побочная гибель (т.е. всякая связь с ограниченным имеет в себе гибель); но еще больше Диоген ссылается на Архилоха, Еврипида, Зено, Ксенофана, Демокрита, Платона и др. как скептиков; Короче говоря, те, кому вторит Диоген, прозрели, что истинная философия сама по себе обязательно имеет отрицательную сторону, которая противостоит всему ограниченному, а значит, и нагромождению фактов сознания и их неоспоримой достоверности, а также узкоспециальным концепциям, которая в тех великолепных учениях, которые г-н Шульце считает недоступными для рационального скептицизма, обращена против всей этой почвы конечности, на которой этот новый скептицизм имеет свое существо и свою истину, и бесконечно более скептична, чем этот скептицизм. Какой более совершенный и самодостаточный документ и систему подлинного скептицизма мы могли бы найти, чем в платоновской философии Парменида, которая охватывает и уничтожает всю область этого знания с помощью понятий понимания.
Этот платоновский скептицизм основан не на сомнении в этих истинах понимания, которое познает вещи как многообразные, как целые, состоящие из частей, как возникающие и исчезающие, как множественность, сходство и т. д. и делает такие объективные утверждения, а на полном отрицании всей истинности такого познания. Этот скептицизм не составляет особой вещи системы, но сам является отрицательной стороной познания абсолютного и сразу же предполагает разум в качестве положительной стороны. Несмотря на то, что платоновский « Парменид» предстает только с отрицательной стороны, Фицинус, например, прекрасно понимает, что тот, кто приступает к его священному изучению, должен сначала подготовить себя чистотой ума и свободой духа, прежде чем решится прикоснуться к тайнам священного произведения. Тидеманн, однако, в связи с этим утверждением Фицинуса, видит в нем лишь человека, застрявшего в экскрементах неоплатоников, а в платоническом труде – лишь кучу и облако довольно темных и, для времен Парменида и Платона, довольно ловких софизмов, но отвратительных для нового метафизика – ошибка, проистекающая из того, что метафизические выражения еще не были правильно определены точными философами; те, кто более практичен в метафизических вопросах, находят, что понятия, которые отличаются друг от друга целым небом, сбиваются; – а именно, что в остальном проницательные люди, Платон и Парменид, еще не проникли в философию, которая не находит истины ни в фактах сознания, а везде, только в разуме, ни в ясности таких понятий, как рассудок и просто конечное мышление в новейших науках физике и т. д., устанавливает, а из опыта. И думает черпать из опыта.
Но этот скептицизм, который в чистом виде проявляется в « Пармениде», неявно присутствует в каждой подлинной философской системе, ибо он является свободной стороной всякой философии; Если в любом предложении, выражающем знание разума, выделить отраженную часть его, содержащиеся в нем понятия, и рассмотреть способ их соединения, то необходимо показать, что эти понятия в то же время отменены или соединены таким образом, что противоречат друг другу, иначе это было бы не разумное, а понятное предложение. Спиноза начинает свою «Этику» с пояснения: под причиной самой себя я понимаю то, чья сущность включает в себя существование в самой себе; или то, чья природа может быть понята только как существующая. – Понятие сущности или природы можно представить только абстрагируясь от существования; одно исключает другое; одно может быть определено только как противоположное другому; если оба они представлены вместе как одно, то их соединение содержит противоречие, и оба отрицаются в одно и то же время. Или если другое предложение Спинозы гласит: Бог есть имманентная, а не преходящая причина мира, то он, сделав причину имманентной, то есть сделав причину единой со следствием, – поскольку причина является причиной лишь постольку, поскольку она противоположна следствию, – отрицает понятие причины и следствия; равным образом доминирует антиномия единого и многого; единое становится тождественным со многим, субстанция – со своими атрибутами. Поскольку каждое такое предложение разума можно разложить на два противоречащих друг другу, например, Бог есть причина и Бог не есть причина; он один и не один, много и не много; у него есть сущность, которая, поскольку сущность может быть постигнута только в противопоставлении форме, а форма должна быть установлена тождественной с сущностью, сама отпадает и т. д., так возникает принцип скептицизма. Таким образом, принцип скептицизма: panti logo logos isos antikeitai [Каждой пропозиции противостоит столь же обоснованная контрпропозиция] проявляется во всей своей силе.
Так называемая пропозиция противоречия, таким образом, настолько не имеет даже формальной истины для разума, что, напротив, каждая пропозиция разума должна содержать ее нарушение в отношении понятий; пропозиция является просто формальной, то есть для разума она утверждается только для себя, без утверждения противоречащей ей пропозиции, которая противопоставляется ей таким же образом и поэтому является ложной. Признать пропозицию противоречия формальной – значит одновременно признать ее ложной. – Поскольку всякая подлинная философия имеет эту негативную сторону или вечно упраздняет пропозицию противоречия, тот, кто считает нужным, может немедленно подчеркнуть эту негативную сторону и сделать из нее скептицизм.
Совершенно непонятно, как г-н Шульце через Секста даже в целом не пришел к выводу, что существует третья философия, кроме скептицизма и догматизма; в первых же строках Секста философы делятся на догматиков, академиков и скептиков; и там, где ему приходится иметь дело с догматиками на протяжении всего своего труда, он не считает, что опроверг также и академиков. Это отношение скептицизма к академии само по себе достаточно обсуждалось; оно породило знаменитый спор в истории скептицизма; и это отношение чистого скептицизма и его смущения – интересный аспект. Но чтобы не совершить несправедливость, следует отметить, что о связи между Академией и скептицизмом г-н Шульце узнал от Секста. Но как г-н Шульце понимает это отношение и что говорит о нем Секст? В примечании (первая часть, стр. 608), в котором г-н Шульце касается этого вопроса, он говорит, что благодаря учению Аркесилая (основателя средней академии) сомнение в истинности догматических учений, конечно, стало теперь делом, лишенным всякого применения разума, потому что оно снова отменяет само себя, и разум больше не слышит ничего вообще. Затем г-н Шульце говорит, что Секст (Lib. I. Pyrrh. Hypot. c. 33) хочет отличить учение Аркесилая от скептицизма по той причине, что, согласно учению Аркесилая и Карнеада, даже это, что все неопределенно, должно быть снова объявлено неопределенным; такое дело сомнения, добавляет г-н Шульце от себя, лишено всякого разума.
Что касается исторической стороны дела, то нельзя поверить своим глазам, когда читаешь такое обоснование исключения учения Аркесилая из скептицизма, приписываемое Сексту. Действительно, сами скептики выражаются самым определенным образом, как утверждает сам г-н Шульце в начале примечания, что их обычная фония: все ложно, ничто не истинно; одного так же мало, как и другого, и т. д. также включают себя снова и снова упраздняют себя, доктрина, которая, помимо того, что присуща самому скептицизму, была также внешне необходима против догматиков, которые упрекали скептиков в том, что у них есть догма: ничто не может быть определено, или: ни одно не является более истинным; а также, чтобы отличить их от других философов, напр. (l.c. c. 30) демокритов, которым принадлежало скептическое выражение: одно так же мало, как и другое; например, мед так же мало сладок, как и горек; скептики отличались тем, что говорили, что в этом есть догма: это ни то, ни другое; они, напротив, показывают этим выражением: одно так же мало, как и другое, что они не знают, является ли явление и тем, и другим или ни тем, ни другим. Таким образом, Секст (цит. соч. С. 333) также отличает скептиков от новой академии Карнеада, принцип которой заключается в том, что все непостижимо; возможно, говорит он, она отличается только тем, что утверждает эту самую непостижимость.
Что говорит г-н Шульце по поводу ограничения этих скептических выражений: что Секст, вероятно, хотел только научить, что скептик не определяет ничего о трансцендентной природе вещей ни в положительном, ни в отрицательном смысле: так что в этом нет никакой противоположности тому утверждению скептиков и Аркесилая, что скептическое выражение закрывает и упраздняет себя в самом себе; и что значит трансцендентная природа вещей? Разве трансцендентное не заключается именно в том, что нет ни вещей, ни их конституции? Итак, Секст, по причине, указанной г-ном Шульце, сам по себе был весьма далек от того, чтобы отличать учение Аркесилая от скептицизма; ведь оно буквально было скептическим; сам Секст говорит, что оно кажется ему настолько согласным с пирроновским логосом, что это почти одно и то же agoge [руководство, наставление – wp] [11 - Поскольку скептицизм предпочитал называть себя именно так, а не hairesis [выбор, отбор – wp], Секст объясняет, что скептицизм можно назвать школой, сектой только в смысле logon tini kata to phainomenon, akolouthesis agoges [на основании очевидной закономерности в поведении – wp].]со скептическим; если не сказать, что Аркесилай объявляет epoche [отказ от суждения – wp] добрым и соответствующим природе, а согласие – злом, что является утверждением, поскольку скептики, с другой стороны, не говорят ничего утвердительного и об этом. Различие, которое, по мнению Секста, еще можно провести, имеет, таким образом, прямо противоположную причину; по мнению г-на Шульце, эта академия была бы объявлена Секстом слишком скептической; Секст же, как мы видели, находит ее слишком мало скептической. Кроме вышеуказанного различия, Секст добавляет еще худшую причину, которая равносильна сплетне, а именно, что Аркесилай, если верить тому, что о нем говорят, был пирронистом только вначале, а на самом деле догматиком; Ибо он использовал апорематический [трудно определимый – wp] только для того, чтобы проверить своих учеников, способны ли они к платоническим доктринам, и по этой причине его принимают за апоретика; но тех, кого он находил способными, он учил платонизму. – Из-за сложного аспекта скептицизма, который для него заключался в его отношениях с Академией, Секст очень подробно рассматривает Платона и Академии. Только из-за полного отсутствия понимания истинной причины этой трудности и философии г-н Шульце может считать себя освобожденным от рассмотрения Академии благодаря сплетне, которую он цитирует в этой самой заметке из «Истории скептицизма» Штудлина, Но, говорит г-н Шульце, некоторые, особенно Штудудлин, снова отмечают, что дух, который одушевлял среднюю и новую академию, совершенно отличен от духа, которым руководствовались скептики в своих исследованиях; Последователи последней были в действительности не более чем софистическими болтунами, которые стремились лишь к заблуждениям и обманам и использовали философию, как и всю полемику скептиков с догматиками, как она велась в то время, лишь как средство для достижения своей главной цели, а именно искусства убеждать других, блистать и привлекать внимание, и совершенно не имели никакого смысла в исследовании истины ради нее самой. – Даже если бы такое обвинение само по себе не было таким пустым и отвратительным, как оно есть, все равно осталась бы старая Академия и сам Платон, осталась бы философия в целом, которая не является догматизмом, и которой следовало бы уделить внимание; но я не смог найти большего внимания к философии, чем я упомянул в этом замечании. В античности же сознание этого отношения скептицизма к платонизму было очень развито; по этому поводу происходил большой спор, в котором одна часть принимала Платона за догматика, другая – за скептика («Диоген» Лаэрция, Платон 51). Поскольку записи этого спора утрачены, мы не можем судить, насколько обсуждалось истинное внутреннее отношение скептицизма к философии и насколько догматики, приписывавшие Платону догматизм, как это делали и скептики, понимали это в том смысле, что скептицизм сам по себе принадлежит философии, или нет. Секст ссылается на дальнейшее развитие этого вопроса в своих скептических комментариях, которые до нас не дошли; в Hypothyp I. 222 он говорит, что хочет изложить основную мысль вслед за Энесидемом и Меродоком, которые были главными скептиками в этом споре; Платон – догматик, потому что если он считает, что идеи, провидение, предпочтение добродетельной жизни порочной – это либо догматика, если он признает их существующими; либо, если он соглашается с более убедительным (pithanoterois), он выпадает из скептического характера, предпочитая одну вещь другой для убеждения или неопровержения.
Это отличие платонизма от скептицизма – либо просто формальная придирка, которая не критикует ничего в предполагаемом предпочтении, кроме формы сознания, ибо покорность скептика необходимости и отцовским законам была именно таким предпочтением, только неосознанным; – либо, если она направлена против реальности самой идеи, она касается познания разума через самого себя; и здесь следует показать особенность чистого скептицизма, который отделяет себя от философии. К этому знанию разума Секст приходит в первой книге против логики (указ. соч., стр. 310) после того, как он ранее отрицал критерий истины вообще из спора философов о нем, а затем, в частности, истинность чувственного знания. То, что он теперь говорит против него, что разум познает себя через себя, – это достаточно лысое утверждение, и если новые скептики хотят бороться с самопознанием разума, то они должны, вероятно, выдвинуть нечто лучшее, если они не сделали для себя более удобным избавить себя от этой проблемы, полностью игнорируя разум и его самопознание и помещая его за щит Горгоны, прямо, не путем злонамеренного искажения и искусства, не так, как если бы они заранее видели это иначе, а в самом взгляде, превратить рациональное, субъективно выраженное в понимании, объективно в камни, и назвать то, что, как они подозревают, выходит за пределы понимания и камня, восторгом и воображением. – Секст по-прежнему знает о разуме и его самопознании. То, что он выдвигает по поводу возможности этого, есть следующее неглубокое рассуждение [аргумент – wp], к которому он сам теперь подводит само понятие отражения целого и частей, которое, подобно Платону в «Пармениде», он разрушает в своих книгах против физиков. Если разум постигает себя, то он должен быть либо, в той мере, в какой он постигает себя, целым, которое постигает себя, либо не целым, а только частью. Если целое постигает себя, то постижение и постигаемое – это целое; если же целое – это постигаемое, то постигаемому ничего не остается; но совершенно неразумно, что постигаемое есть, но не есть то, что постигается. Но разум не может использовать для этой цели и часть самого себя, ибо как часть может постичь саму себя? Если это целое, то ничего не остается для того, что должно быть схвачено; если снова часть, то как она может снова схватить себя; и так до бесконечности; так что схватывание не имеет принципа, поскольку либо не найдено первое, что берет на себя схватывание, либо нет ничего, что должно быть схвачено. – Видно, что разум превращается в абсолютное субъективное, которое, будучи представлено как целое, не оставляет ничего для того, что должно быть постигнуто. Тогда (а теперь появляются еще лучшие причины, которые, как и прежде в понятии целого и частей, а также абсолютной субъективности или абсолютной объективности, теперь сводят разум к появлению определенного места), если разум постигает себя, он тем самым постигает и место, в котором находится; ибо всякая постигающая вещь постигает определенное место; Но если разум постигает место, в котором он находится, вместе с самим собой, то философы не должны расходиться во мнениях: одни говорят, что таким местом является голова, другие – грудь; и в частности, одни – мозг, другие – менинги, третьи – сердце, четвертые – протоки печени или любая другая часть тела; в этом философы-догматики расходятся. Разум, таким образом, не постигает сам себя.
Вот что выдвигает Секст против самопознания разума; это пример всех орудий скептицизма против разума; они состоят в применении к нему понятий; после этого легко показать, что разум, помещенный в конечность и, как это делает г-н Шульце, превращенный в вещь, есть вещь, противопоставленная другой, которая должна быть также позиционирована, но не позиционирована этой конкретикой. Наиболее распространенное из них, а именно апелляцию к разногласиям философов между собой, Секст также подробно излагает сразу после цитируемого отрывка, сплетню, которую моральные догматики против спекуляции разделяют со скептицизмом, как Ксенофон уже вкладывает ее в уста Сократа, и которая ближе всего к поверхностному взгляду, прилипающему к словам. Даже если этот скептицизм уже оторвался и отделился от философии, а именно от той, которая в то же время включает в себя скептицизм, он все же признал это различие между догматизмом и философией, последней под именем академической философии, а также большое согласие последней с ней, о котором более новая, с другой стороны, ничего не знает.
Но кроме скептицизма, который един с философией, скептицизм, отделенный от нее, может быть двояким: либо он не направлен против разума, либо он направлен против него. Из той формы, в которой Секст дает нам скептицизм, отделенный от философии и обращенный против нее, можно с очевидностью выделить старый подлинный скептицизм, который, хотя и не имел положительной стороны, как философия, а утверждал чистую отрицательность по отношению к знанию, был так же мало направлен против философии; так же отделено его позднее добавленное враждебное направление отчасти против философии, отчасти против догматизма. Его поворот против последнего, так же как и последний стал догматизмом, показывает, как он шел в ногу с общим вырождением философии и мира вообще, пока, наконец, в новейшее время не опустился так далеко вниз вместе с догматизмом, что теперь для обоих факты сознания имеют неоспоримую определенность, и для обоих истина заключается во временности; Так что, поскольку крайности касаются друг друга, в эти счастливые времена великая цель снова достигается с их стороны, что внизу догматизм и скептицизм совпадают, и оба протягивают друг другу братскую руку. Шульцевский скептицизм объединяет в себе самый грубый догматизм, а крюгианский догматизм одновременно несет этот скептицизм в себе.
Секст представляет нам максимы скептицизма в семнадцати тропах, различие которых точно указывает на отличие его скептицизма от старого, который стоял сам по себе, без философского знания, но в то же время укладывался в рамки философии, особенно старой, которая имела меньше отношения к субъективности.
К старому скептицизму принадлежат первые десять из семнадцати тропов, к которым только гораздо более поздние скептики, – говорит Секст о более новых, – Диоген упоминает Агриппу, жившего около пятисот лет после Пирра, – добавили пять; два добавленных, по-видимому, опять-таки поздние, Диоген не упоминает о них вовсе, Секст также отделяет их, и они незначительны.
Эти десять статей, которыми ограничился старец, как и вся философия в целом, направлены против догматизма, неопределенности конечных величин, в которую она бессознательно попадает, и этого безразличия ума, перед которым колеблется все, что дает видимость или разум, в которое колеблется всякая конечность, по мнению скептиков, как тень следует за телом, входит атараксия [душевное спокойствие – wp], обретенная разумом; Как Апеллес, когда он рисовал лошадь и не мог вывести изображение пены, бросил ее, бросил губку, которой стер краски с кисти, на картину, и таким образом поразил изображение пены; Таким образом, скептики находят истинное, приобретенное разумом спокойствие, которое по природе составляет отличие животного от человека и которое Пиррон однажды показал своим спутникам на корабле, унывавшим во время сильной бури, со спокойным умом на свинье, которая ела на корабле, со словами мудрец должен находиться в такой атараксии. Таким образом, скептицизм имел свою положительную сторону исключительно в своем характере и полном безразличии к необходимости природы.
Из краткого перечисления десяти пунктов, на которых основывается epoche [отношение суждения – wp] скептицизма, сразу же станет очевидным его направление против определенности вещей и фактов сознания; ибо неопределенность всех вещей и необходимость epoche показывается следующим образом
1) из различия животных,
2) людей,
3) организацией органов чувств,
4) обстоятельств,
5) положения, расстояния и места,
6) смешений (через которые ничто не предстает перед чувством в чистом виде),
7) различные размеры и качества вещей
8) отношение (а именно, что все существует только в отношении к другому),