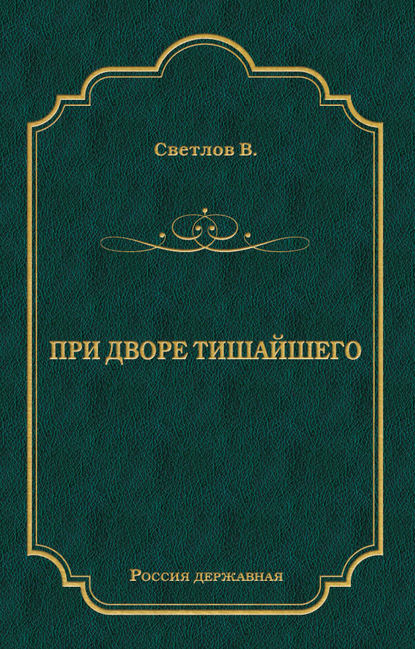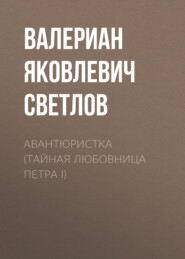По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
При дворе Тишайшего
Серия
Год написания книги
1911
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да что ты, мамушка! – начала оправдываться боярыня.
– Нешто я сердца твоего не знаю? – грустно проговорила Марковна. – Ну, да что толковать! Твоя да Божья на то воля. А ты скажи мне, Агафью-то на вечные времена сослать? Может, замуж там за кого-либо выдать?
– Делай, как знаешь. Можно, как время минет, и вернуть. Покличь-ка ко мне Аннушку!
Марковна поцеловала боярыню в плечо и тихо вышла.
Елена Дмитриевна облегченно вздохнула.
Да, мамушка была права: она сильно изменилась к ней. Чуткое, любящее сердце старухи почуяло перемену.
Елене Дмитриевне в последнее время стало тягостно присутствие этого преданного существа. Оно напоминало ей ее прошлое, темную страницу жизни, которую ей так хотелось забыть, и служило ей единственным живым укором, потому что до этого дня боярыня думала, что ее тайна более никому на свете не была известна. Ей тяжела была рабская преданность Марковны, доходившая до потворства преступлению, и в последнее время она стала избегать ее услуг и советов.
Но вот опять пришлось обратиться к ее преданности в таком щекотливом деле, и это неприятно действовало на без того расстроенную боярыню.
Ее еще тревожило смутное беспокойство о причине долгого отсутствия князя Джавахова. Он должен был быть уже давно у нее, но наступала уже скоро ночь, а его все еще не было.
Нетерпение сказывалось во всех движениях боярыни. Она уже без особого удовольствия, почти машинально, заглянула в зеркало, поправила растрепавшиеся волосы, осталась недовольна пылавшими щеками, но, махнув рукою, отошла от зеркала. В это время в комнату вошла девушка Анна.
– Ну, что? Ты была? Нашла? – закидала боярыня девушку вопросами. – Отчего он не идет?
– Боярыня… Он… он был! – пролепетала девушка, предчувствуя гневную вспышку боярыни.
– Как был, кто был? – не поняла Елена Дмитриевна. – Что ты мелешь, дура!
– Был князь этот, – совсем теряясь от испуга, пролепетала Анна.
– Да говори ты толком, или я тебе все зубы выколочу! – тряся девушку за плечо, крикнула боярыня. – Какой князь? Пронский? Да разве я тебя к нему посылала, паскуда! – И звонкая пощечина отпечатала на щеке девушки яркий румянец.
– Не… не Пронский, а князь этот, грузинский… вместе со мной… при… пришел! – прерывающимся от страха и слез голосом ответила девушка.
– Как пришел? Где же он? – пораженная, отступила боярыня.
– Постоял у… у двери и… ушел.
– Ушел? Постоял у двери? – шептала в изумлении Елена Дмитриевна. – И ничего не сказал?
– Как же… сказал!.. Сказал, что в другой раз когда зайдет, что ты, мол, занята! – собравшись с духом, разом выпалила Анна.
– Почем узнал он, что у меня гость?
– Он приотворил, кажись, дверь…
– Громко мы говорили или… тихо? – пораженная какой-то мыслью, уже значительно спокойнее спросила боярыня.
– Тихо… почитай что и голосов не было слышно.
– Ступай! – побледнев и опускаясь на скамью, проговорила Елена Дмитриевна. – Ступай же!
Аннушка быстро шмыгнула за дверь, радуясь, что благополучно избегла надвигающейся грозы.
А боярыня, положив локти на стол, охватила голову руками и, покачиваясь из стороны в сторону, точно от сильнейшей головной боли, тихо причитывала:
– Сгубила, сгубила! Сама свое счастье сгубила! Что мне Пронский, на что мне власть над ним нужна? Погубила, погубила свое счастье! Не вернется он, любый мой, черноглазый мой, красавец! – И она горько заплакала.
Слезы облегчили ее встревоженную душу; наплакавшись досыта, она подняла голову и задумчиво улыбнулась самой себе, причем ее губы шепнули:
– Разревелась, как дура! А что, если он ничего не видел и не разобрал? Слышал голоса и ушел как подобает… У них вон постучавшись входят. – Она улыбнулась ясной, спокойной улыбкой. – Ну, разумеется, он ничего не видел и не слышал. Завтра же снова за ним пошлю и все разузнаю. Он, как дитя малое, сейчас все выложит, врать-то не мастера они.
И, успокоившись на этом, боярыня потребовала ужин, а затем пошла спать.
XVIII
Видение
Эту ночь князь Джавахов спал плохо и, чуть забрезжило утро, встал с тахты, заменявшей ему постель, отбросил от себя мутаки и бурку, которой укрывался, надел на себя чуху и сел к окну. Заря чуть занималась; в течение ночи лужицы затянулись легким ледком, грязь попримерзла, и только кое-где еще видневшийся снег показывал, что зима нехотя уползала с давно насиженных мест.
Леону Джавахову особенно грустно и безотрадно показалось это бледное, раннее утро в чужой стороне. Еще зиму, с ее белой пеленой снега и суровыми морозами, он кое-как переносил из-за ее своеобразной красоты. Но русской весны и лета сын горячего юга совершенно не переносил; его всегда томили эти медленно наступавшие сумерки и холодно и неохотно смотрящее с белесоватого неба солнце. Ему тогда особенно хотелось дышать благоухающим воздухом своих родных гор, греться под лучами знойного солнца и без конца любоваться синим, глубоким небом.
При воспоминании о синем небе в его воображении блеснули прозрачные темно-голубые глаза. Но не грели, не ласкали эти голубые северные глаза; блеск и прозрачность их были обманчивы, как обманчивы и лживы были уста, говорившие ласковые речи.
А он, пылкий юноша чужой страны, чуть было не отдал этой голубоглазой красавице своего верного сердца, умеющего любить только один раз, отдаваться только навеки!
Но хвала Богоматери! Она указала ему эту женщину во всей ее коварной прелести. Он сам, своими глазами видел, как она обнимала другого; видел, как ее губы целовал этот другой, какими страстными очами ловила она его взгляды.
Этого было бы достаточно, чтобы вырвать и более сильное чувство, чем то, которое владело юным князем. Страсть еще не слишком сильно захватила его. Он все колебался, как-то робел перед женщиной, которая, видимо, благосклонно относилась к его начинающемуся чувству и невольно волновала его молодое воображение своей дразнящей, великолепной красотой. Однако ее поведение, свободное, даже немного вольное, с мужчинами, слухи о ее похождениях, толки об отношениях царя Алексея и молодой вдовы, ее исключительное влияние при дворе и злоупотребление этим влиянием – все это пугливо отталкивало патриархально воспитанного в суровых и благочестивых правилах юношу. Он невольно прислушивался к нелестным эпитетам, пристегиваемым к имени, которое становилось ему дорого, присматривался к отношениям между нею и другими, с кем ее не боялись ставить рядом, и его сердце тревожно ныло, сомневаясь и боясь убедиться в чем-то ужасном.
Так прошло много дней и даже месяцев с их первой встречи. Леон Вахтангович пребывал в томительной тревоге, скучно живя изо дня в день и даже охладев к мысли найти свой кинжал.
Его друг, стрелец Пров Степанович, навестил его два раза по возвращении из Дубновки от отца, где пробыл несколько месяцев, спасаясь от преследования Черкасского, и радовался, что грузин, по-видимому, отказался от прежней упрямой мысли.
– Так-то лучше, – говорил он. – Кинжал что?! Плевое дело!.. Мало ли их у заезжих купцов? А Черкасскому лучше на глаза не показываться! Да, может, о нас и позабыл; говорят – женится, ему теперь не до нас!
Джавахов слушал своего нового товарища и укорял себя в бездействии. Отец уже раза два спросил у него, где дедовский кинжал, и Леон пробормотал в ответ, что отдал его кому-то из бояр «для поглядения». Старый грузин насупился, исподлобья посмотрел на сына, задумчиво покрутил седой ус, ничего не сказал; но Леону этот жест был хорошо знаком; он знал, что при следующем вопросе надо будет или показать оружие, или найти более правдоподобное объяснение его исчезновению.
– Надо приняться за розыски, – раздумчиво проговорил Леон, когда уже взошло солнце в это утро. – Нечего мне ходить к боярыне да учить ее играть на джиануре. Обабился я совсем. И когда только наше посольство уедет из этой печальной Москвы?
Еще становилось грустнее Леону, когда он вспоминал, зачем именно они приезжали в Россию. Там, на родине, братья бьются за веру и свободу, а он здесь распевает песни с красивой женщиной и служит ей развлечением!
Краска выступила при этой мысли на смуглых щеках юноши, он задыхался и отворил окно, чтобы вздохнуть свежим утренним воздухом.
Было еще довольно холодно, с улицы врывался влажный ветерок, и Леон, вздрогнув от охватившей его сырости, хотел уже захлопнуть окно, как вдруг его внимание привлек соседний дом, с некоторых пор снявший крепкие затворы со своих окон и дверей.
Леона всегда занимал этот таинственно заколоченный дом; часто, глядя на него, он сгорал от любопытства узнать историю его до сих пор невидимых обитателей. Однажды он заметил, что дом открыт и что в нем живут; но домовое крыльцо выходило на другую улицу, и люди мало и редко показывались на этой стороне, куда, прямо в сад, выходило всего два узких окна. Позже Леон несколько раз приметил в саду князя Пронского, но ни разу не поинтересовался узнать, как тот попадал сюда. И вдруг теперь в одном окне, точно видение, появилась молодая девушка с длинной, распущенной по плечам косой.
Леона поразила не красота девушки, которая вовсе не была выдающейся, а вдохновенное выражение ее лица, ее большие лучистые глаза, которые со скорбной мольбой были устремлены на небо. На бледном худеньком личике девушки лежало выражение страдания; ее губы что-то шептали, и она долго не замечала устремленных на нее с невольным восхищением взоров молодого грузина. Наконец, видимо окончив молитву, она опустила покрасневшие и опухшие от слез глаза, и тут ее взгляд упал на Леона. Слабый румянец окрасил ее бледные щеки; стыдливым движением она закрыла руками обнаженную шею, и ее лучистые глаза на одно мгновение встретились с черными глазами грузина. Он хотел поклониться ей, сделать какой-нибудь дружественный знак, но она медленно отступила от окна и исчезла в глубине комнаты.
Образ этой девушки с устремленным на небо взором произвел неотразимое впечатление на смущенную душу юноши. Точно мечта или сказочная фея, мелькнула она на миг в этом окне, чтобы напомнить молодому грузину, что на небе есть Бог, к Которому следует обращаться, когда на душе лежит тягость, когда сердце томится печалью.
– Нешто я сердца твоего не знаю? – грустно проговорила Марковна. – Ну, да что толковать! Твоя да Божья на то воля. А ты скажи мне, Агафью-то на вечные времена сослать? Может, замуж там за кого-либо выдать?
– Делай, как знаешь. Можно, как время минет, и вернуть. Покличь-ка ко мне Аннушку!
Марковна поцеловала боярыню в плечо и тихо вышла.
Елена Дмитриевна облегченно вздохнула.
Да, мамушка была права: она сильно изменилась к ней. Чуткое, любящее сердце старухи почуяло перемену.
Елене Дмитриевне в последнее время стало тягостно присутствие этого преданного существа. Оно напоминало ей ее прошлое, темную страницу жизни, которую ей так хотелось забыть, и служило ей единственным живым укором, потому что до этого дня боярыня думала, что ее тайна более никому на свете не была известна. Ей тяжела была рабская преданность Марковны, доходившая до потворства преступлению, и в последнее время она стала избегать ее услуг и советов.
Но вот опять пришлось обратиться к ее преданности в таком щекотливом деле, и это неприятно действовало на без того расстроенную боярыню.
Ее еще тревожило смутное беспокойство о причине долгого отсутствия князя Джавахова. Он должен был быть уже давно у нее, но наступала уже скоро ночь, а его все еще не было.
Нетерпение сказывалось во всех движениях боярыни. Она уже без особого удовольствия, почти машинально, заглянула в зеркало, поправила растрепавшиеся волосы, осталась недовольна пылавшими щеками, но, махнув рукою, отошла от зеркала. В это время в комнату вошла девушка Анна.
– Ну, что? Ты была? Нашла? – закидала боярыня девушку вопросами. – Отчего он не идет?
– Боярыня… Он… он был! – пролепетала девушка, предчувствуя гневную вспышку боярыни.
– Как был, кто был? – не поняла Елена Дмитриевна. – Что ты мелешь, дура!
– Был князь этот, – совсем теряясь от испуга, пролепетала Анна.
– Да говори ты толком, или я тебе все зубы выколочу! – тряся девушку за плечо, крикнула боярыня. – Какой князь? Пронский? Да разве я тебя к нему посылала, паскуда! – И звонкая пощечина отпечатала на щеке девушки яркий румянец.
– Не… не Пронский, а князь этот, грузинский… вместе со мной… при… пришел! – прерывающимся от страха и слез голосом ответила девушка.
– Как пришел? Где же он? – пораженная, отступила боярыня.
– Постоял у… у двери и… ушел.
– Ушел? Постоял у двери? – шептала в изумлении Елена Дмитриевна. – И ничего не сказал?
– Как же… сказал!.. Сказал, что в другой раз когда зайдет, что ты, мол, занята! – собравшись с духом, разом выпалила Анна.
– Почем узнал он, что у меня гость?
– Он приотворил, кажись, дверь…
– Громко мы говорили или… тихо? – пораженная какой-то мыслью, уже значительно спокойнее спросила боярыня.
– Тихо… почитай что и голосов не было слышно.
– Ступай! – побледнев и опускаясь на скамью, проговорила Елена Дмитриевна. – Ступай же!
Аннушка быстро шмыгнула за дверь, радуясь, что благополучно избегла надвигающейся грозы.
А боярыня, положив локти на стол, охватила голову руками и, покачиваясь из стороны в сторону, точно от сильнейшей головной боли, тихо причитывала:
– Сгубила, сгубила! Сама свое счастье сгубила! Что мне Пронский, на что мне власть над ним нужна? Погубила, погубила свое счастье! Не вернется он, любый мой, черноглазый мой, красавец! – И она горько заплакала.
Слезы облегчили ее встревоженную душу; наплакавшись досыта, она подняла голову и задумчиво улыбнулась самой себе, причем ее губы шепнули:
– Разревелась, как дура! А что, если он ничего не видел и не разобрал? Слышал голоса и ушел как подобает… У них вон постучавшись входят. – Она улыбнулась ясной, спокойной улыбкой. – Ну, разумеется, он ничего не видел и не слышал. Завтра же снова за ним пошлю и все разузнаю. Он, как дитя малое, сейчас все выложит, врать-то не мастера они.
И, успокоившись на этом, боярыня потребовала ужин, а затем пошла спать.
XVIII
Видение
Эту ночь князь Джавахов спал плохо и, чуть забрезжило утро, встал с тахты, заменявшей ему постель, отбросил от себя мутаки и бурку, которой укрывался, надел на себя чуху и сел к окну. Заря чуть занималась; в течение ночи лужицы затянулись легким ледком, грязь попримерзла, и только кое-где еще видневшийся снег показывал, что зима нехотя уползала с давно насиженных мест.
Леону Джавахову особенно грустно и безотрадно показалось это бледное, раннее утро в чужой стороне. Еще зиму, с ее белой пеленой снега и суровыми морозами, он кое-как переносил из-за ее своеобразной красоты. Но русской весны и лета сын горячего юга совершенно не переносил; его всегда томили эти медленно наступавшие сумерки и холодно и неохотно смотрящее с белесоватого неба солнце. Ему тогда особенно хотелось дышать благоухающим воздухом своих родных гор, греться под лучами знойного солнца и без конца любоваться синим, глубоким небом.
При воспоминании о синем небе в его воображении блеснули прозрачные темно-голубые глаза. Но не грели, не ласкали эти голубые северные глаза; блеск и прозрачность их были обманчивы, как обманчивы и лживы были уста, говорившие ласковые речи.
А он, пылкий юноша чужой страны, чуть было не отдал этой голубоглазой красавице своего верного сердца, умеющего любить только один раз, отдаваться только навеки!
Но хвала Богоматери! Она указала ему эту женщину во всей ее коварной прелести. Он сам, своими глазами видел, как она обнимала другого; видел, как ее губы целовал этот другой, какими страстными очами ловила она его взгляды.
Этого было бы достаточно, чтобы вырвать и более сильное чувство, чем то, которое владело юным князем. Страсть еще не слишком сильно захватила его. Он все колебался, как-то робел перед женщиной, которая, видимо, благосклонно относилась к его начинающемуся чувству и невольно волновала его молодое воображение своей дразнящей, великолепной красотой. Однако ее поведение, свободное, даже немного вольное, с мужчинами, слухи о ее похождениях, толки об отношениях царя Алексея и молодой вдовы, ее исключительное влияние при дворе и злоупотребление этим влиянием – все это пугливо отталкивало патриархально воспитанного в суровых и благочестивых правилах юношу. Он невольно прислушивался к нелестным эпитетам, пристегиваемым к имени, которое становилось ему дорого, присматривался к отношениям между нею и другими, с кем ее не боялись ставить рядом, и его сердце тревожно ныло, сомневаясь и боясь убедиться в чем-то ужасном.
Так прошло много дней и даже месяцев с их первой встречи. Леон Вахтангович пребывал в томительной тревоге, скучно живя изо дня в день и даже охладев к мысли найти свой кинжал.
Его друг, стрелец Пров Степанович, навестил его два раза по возвращении из Дубновки от отца, где пробыл несколько месяцев, спасаясь от преследования Черкасского, и радовался, что грузин, по-видимому, отказался от прежней упрямой мысли.
– Так-то лучше, – говорил он. – Кинжал что?! Плевое дело!.. Мало ли их у заезжих купцов? А Черкасскому лучше на глаза не показываться! Да, может, о нас и позабыл; говорят – женится, ему теперь не до нас!
Джавахов слушал своего нового товарища и укорял себя в бездействии. Отец уже раза два спросил у него, где дедовский кинжал, и Леон пробормотал в ответ, что отдал его кому-то из бояр «для поглядения». Старый грузин насупился, исподлобья посмотрел на сына, задумчиво покрутил седой ус, ничего не сказал; но Леону этот жест был хорошо знаком; он знал, что при следующем вопросе надо будет или показать оружие, или найти более правдоподобное объяснение его исчезновению.
– Надо приняться за розыски, – раздумчиво проговорил Леон, когда уже взошло солнце в это утро. – Нечего мне ходить к боярыне да учить ее играть на джиануре. Обабился я совсем. И когда только наше посольство уедет из этой печальной Москвы?
Еще становилось грустнее Леону, когда он вспоминал, зачем именно они приезжали в Россию. Там, на родине, братья бьются за веру и свободу, а он здесь распевает песни с красивой женщиной и служит ей развлечением!
Краска выступила при этой мысли на смуглых щеках юноши, он задыхался и отворил окно, чтобы вздохнуть свежим утренним воздухом.
Было еще довольно холодно, с улицы врывался влажный ветерок, и Леон, вздрогнув от охватившей его сырости, хотел уже захлопнуть окно, как вдруг его внимание привлек соседний дом, с некоторых пор снявший крепкие затворы со своих окон и дверей.
Леона всегда занимал этот таинственно заколоченный дом; часто, глядя на него, он сгорал от любопытства узнать историю его до сих пор невидимых обитателей. Однажды он заметил, что дом открыт и что в нем живут; но домовое крыльцо выходило на другую улицу, и люди мало и редко показывались на этой стороне, куда, прямо в сад, выходило всего два узких окна. Позже Леон несколько раз приметил в саду князя Пронского, но ни разу не поинтересовался узнать, как тот попадал сюда. И вдруг теперь в одном окне, точно видение, появилась молодая девушка с длинной, распущенной по плечам косой.
Леона поразила не красота девушки, которая вовсе не была выдающейся, а вдохновенное выражение ее лица, ее большие лучистые глаза, которые со скорбной мольбой были устремлены на небо. На бледном худеньком личике девушки лежало выражение страдания; ее губы что-то шептали, и она долго не замечала устремленных на нее с невольным восхищением взоров молодого грузина. Наконец, видимо окончив молитву, она опустила покрасневшие и опухшие от слез глаза, и тут ее взгляд упал на Леона. Слабый румянец окрасил ее бледные щеки; стыдливым движением она закрыла руками обнаженную шею, и ее лучистые глаза на одно мгновение встретились с черными глазами грузина. Он хотел поклониться ей, сделать какой-нибудь дружественный знак, но она медленно отступила от окна и исчезла в глубине комнаты.
Образ этой девушки с устремленным на небо взором произвел неотразимое впечатление на смущенную душу юноши. Точно мечта или сказочная фея, мелькнула она на миг в этом окне, чтобы напомнить молодому грузину, что на небе есть Бог, к Которому следует обращаться, когда на душе лежит тягость, когда сердце томится печалью.