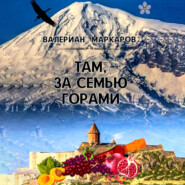По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда о Пиросмани
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Марго-джан, шакар чунес?[29 - Шакар чунес? (арм.) – Сахар есть у тебя?]
– Марили момеци ра, Жужуна – генацвале![30 - «Марили матхове ра, Жужуна – генацвале!» – В пер. с груз.: «Одолжи соли, пожалуйста, Жужуна дорогая!»]
А старая Вартуш, высохшая от ветра времени, сидя на табурете возле окошка, пела свою любимую песенку:
«Ми пучур бабушка,
нстела акушка,
утума семушка,
наюма дедушка…»[31 - В пер. с арм.: «Одна маленькая бабушка сидит на окошке, кушает семечки, смотрит на дедушку»]
Толстый, неповоротливый Витик, завидев «братву» из Калантаровского дома, выбегал из комнаты, не доев свою кашу. За ним бежала его мать, крича и плача, что она «похоронит папу» и сама умрёт, если он не съест ещё одну ложку хотя бы ради неё.
После завтрака во двор, поближе к «кранту», выставлялись лоханки и начиналась стирка. В мыльной пене копошились женские руки. Они что-то усиленно оттирали, выжимали, затем полоскали, и снова отжимали. А потом заполняли отстиранным бельём верёвки, что протягивались через весь двор, от туты до акации, и от столбика к балкону. А на перила «выбрасывались» подушки, одеяла, коврики, которые предварительно хлестались рукоятками веников или швабрами. Детям нравились эти «занавеси», они помогали при игре в прятки.
А потом во дворе раздавался хриплый голос бойкой Нази-бебо, приводившей во двор своего старого ослика, на спине которого висели хурджины[32 - Хурджины – большие перемётные сумки из кожи или шерсти для переноски сельскохозяйственных продуктов и др. С давних времён использовались у восточных и кавказских народов.]:
«Мацони! Ма-ла-ко-о!», – и опять хозяйки спешили вниз, на этот призыв.
– Почему этот мацони такой жёлтый? – спрашивала одна.
– Это «камечис», буйволиный, очень полезный. От всего лечит.
Спустилась и француженка, мадам Тер-Акопова. Но, увидев бедного ослика, у которого от старости уже провис хребет, она схватилась обеими руками за своё бледное лицо и с жалостью прошептала: «О, Mon Dieu! [33 - Mon Dieu! – (франц. яз) – Боже мой!]Несчастное существо!» и удалилась, наотрез отказавшись покупать целебный кисломолочный продукт у бесчеловечной мацонщицы. Нико тогда показалось, что мадам пустила слезу, иначе отчего это она вдруг достала из кармашка кристальной белизны платочек и коснулась им своих глаз?
– Дрянная старая дева! – прошипела ей вслед, блеснув глазами, мацонщица Нази-бебо. – Ишь ты, бла-га-род-ная какая нашлась, осла пожалела! Лучше себя пожалей! Прожила ты свою безгрешную жизнь, поэтому и не знала ни одного счастливого дня! – а потом, переключив взгляд на детвору, которая обступила со всех сторон света вьючную скотину и гладила её до полного одурения, она завопила диким голосом:
– А ну-ка, руки свои уберите от моего осла!
Ребятки же, казалось, напрочь оглохли и продолжали своё дело, лаская ишачка и невзирая на громкие подзатыльники своих матерей.
Вдруг во дворике появляется зелень: киндза, петрушка, укроп, реган, тархун. Её катит перед собой на тачке сам продавец. Фрукты тоже едут, но не на тачке, а верхом на человеке. На голове его громадная плоская деревянная чаша с товаром. Настоящий кинто!
Раз в неделю, где-то в середине дня, вся Садовая на несколько часов теряла спокойствие. Женщины и мужчины хватали пустые бидоны и по гулким деревянным балконам, по гудящим деревянным лестницам взапуски неслись на улицу:
– Кэ-ра-син! – такое необходимое всем зажигательное слово.
Лошадь, железная бочка с керосином, пожилой армянин с колоколом в руке ещё только на подходе, а чьё-то чуткое ухо уже уловило звон, значит, лети поскорее, пока улица в неведении дремлет. Вот люди и бегут, громыхая бидонами и клича любимых соседей.
А когда садилось солнце во дворе появлялся завсегдатай по имени Шакро. Он нёс на спине два мешка. Один был доверху наполнен воздушной кукурузой, слепленной подкрашенным сиропом в шары размером с яблоки. Сквозь другой просматривались очертания бутылок.
– Бады-Буды! На бутылки! Бады-Буды. Ме-ня-ю на бутылки!
Шакро был любимцем всех детей и злющим врагом их родителей.
– Ма-ма-а-а! – кричал Витик истошным голосом, будто во дворе начался пожар. – Дай три бутылки. Быстро! Наш Шакро бады-буды принёс!
– Ва-а-ай! – вырвалось из женской груди. – Не дам тебе никаких бутылок! Ишак ты карабахский!
Тот искривился и издал странный звук, похожий то ли на смех, то ли на плач.
– Ах, ты плут! Делай одно дело: или кричи и плачь, или не смейся, когда плачешь! Сто раз повторяла: хватит тебе уже эту заразу кушать! Намучилась я с тобой! Сдохнешь в один день, освобожусь от тебя! – Витикина мама подробно перечислила все беды, какие обрушились на неё со дня его рождения и по сей день. Сверкая глазами и хватаясь за голову, она в то же время зорко следила за тем, какое впечатление производит не столько на непослушное дитя, сколько на соседей, и, в зависимости от этого, то сгущала краски, то смягчала их.
Но хитрый Витик давно смекнул, что не нуждается в её благоволении. Точно зная, где в доме хранятся бутылки, он хватал их своими пухлыми руками в охапку, и, гремя стеклом и очертя голову, бежал менять их на сладкую кукурузу, чтобы поделиться хрустящими и сладкими шарами с другими мальчишками. Ведь иначе его, толстяка, не брали в игру.
А порой в этот шумный двор захаживал старик с пёстро расписанным ящиком на скрюченной спине. Звали его Шалико и был он потомственным шарманщиком. Переступив за кованую дверь, он снимал с плеча музыкальную шкатулку и располагался под акацией, чтобы завести «кормилицу». Шарманка была старой и страдала хрипотой, монотонным кашлем и перенесла на своём веку не одну починку. Да видно мастера попадались все никудышные, потому что в некоторых местах поющий «органчик» вдруг начинал заикаться, издавать печальный и дрожащий звук, точно старческий вздох, и всё плакал, плакал. И старое небо плакало вместе с ним моросящим дождём. А иногда он тянул одну и ту же ноту, сбивая все другие звуки, что делало музыкальное произведение фальшивым и нестройным.
Первыми на звуки плачущей шарманки бежали любопытные дети. Пока Шалико размеренно вращал рукоятку своего агрегата и скрипучим голосом пел подряд две песни о несчастной любви, с верхних ярусов дома, привязанные на веревках, опускались булки, рогалики, кусковой сахар и конфеты. А тонкая душой мадам Тер-Акопова, торопливо стуча каблучками, всегда являлась публике в нарядном виде: в длинной чёрной юбке и кремовой шёлковой блузе с брошью, и уважительно погружала монетки в его засаленный серый картуз. Собрав «урожай», мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжёлым шагом шёл дальше…
Однажды тётушки Калантаровы повели детей на прогулку по Михайловской улице, в парк, носивший странное название «Муштаид». Тётушка объяснила, что некий выходец из Персии по имени Ага-Мирфетах Муштаид получил эту территорию от властей и построил здесь дом. И была у него наложница, грузинская красавица по имени Нино. Мол, купил он её на невольничьем рынке в Константинополе, влюбился и женился на ней. После возвращения в Грузию Нино заболела и умерла. Супруг сильно скорбел по ней и похоронил её тело рядом с домом, а вокруг могилы посадил много роскошных розовых кустов и реликтовых деревьев, которые и стали фундаментом для этого парка.
В этом «Гульбищном саду для тифлисцев» царила обстановка праздника: продавали ситро и сладкую вату. А на одной из аллей усатый старик с перекинутым за сгорбленной спиной ящиком кричал зазывным голосом на тифлисском диалекте:
– Аба, пломбир в стака-анчике, цхел-цхели шоколадни маро-ожниии![34 - «Цхел-цхели шоколадни маро-ожниии!» – в пер. с груз. («а ну-ка, горячее-горячее шоколадное мороженное») – так, с ошибками, кричали во дворах продавцы мороженного., завлекая покупателей.]
Нико ещё не знал вкуса мороженого, и тётушки, что сопровождали детей на этой прогулке, решили устроить им праздник.
– Аба, свежи-и-и, гариачи-и-и, маро-ожни-и-и! На раз-ре-ез!
Тётушки переглянулись, заулыбались, и одна из них, остановив мороженщика, попросила показать, какое такое у него мороженое «на разрез»?
– Сначала купи, а патом я тэбэ пакажу, барышня! – ответил тот, вытирая пот со лба.
Тифлисец рассуждает как? Сначала поверим, потом проверим! Не оттого ли люди живут здесь весело, легко и долго…
Когда мороженщик получил деньги, то взял нож, воткнул его в один из стаканчиков, и спросил:
– Папалам резат? – его глаза плутовски созерцали красивую барышню, которая, конечно же, никогда бы не согласилась, чтобы её стаканчик с мороженым был изуродован ножом.
Но даже изумительный вкус сливочного мороженого, быстро тающего и превращающегося на языке в капельки сладкого парного молока, не мог оторвать взгляда Нико от художников, что с кистями в руках стояли за своими, расставленными на ножках, мольбертами. Рядом с ними, на траве, лежали краски, бутыли оливы. Одни рисовальщики сосредоточенно что-то изображали на своих холстах, накладывая на них краски так, что становились заметными мазки кисти. Другие – только пришли и выбирали себе подходящее, хорошо освещённое, место, расставляли мольберты, посмеивались, перебрасывались шуточками и фразами…
Нико вздохнул, представив себя на их месте: «Когда же закончится это глупое детство?».
А ещё он учился русской и грузинской грамоте, по воскресеньям ходил с семьей в Сионский собор поставить свечку Сионской Божьей Матери, по праздникам – в Казённый Театр, или оперу, что был построен в роскошном мавританском стиле и представлял собой совершенно очаровательное сооружение. В нём шли «Фауст» и «Аида». Но Нико, казалось, интересовало только рисование. Взяв в руки красный карандаш или уголь, он каждую минуту изображал всех живущих в доме и соседей. Везде: на бумаге, на заборах, на стенах домов и даже на скалах Сололакского хребта, у подножия которого располагался дом его благодетелей. А порой он забирался на крышу и начинал углём зарисовывать прямо на жестяной кровле всё, что оттуда видел: Метехи, неприступную крепость Нарикала, Святую гору Мтацминда, Ботанический сад и горделивую Куру, разделившую город надвое. Его рисунки очень нравились домочадцам, они с гордостью показывали их своим частым гостям.
После убогих Мирзаани и Шулавери, взор мальчика не переставал дивиться шумному колориту старого Тифлиса, служившему мостом между Европой и Азией. Узкие кривые улочки с маленькими домиками, что прижимались друг к другу, носили удивительные названия – Винный ряд, Угольная, Армянский базар, Башмачный ряд, Сионская, Банная, Ватный ряд, – они змейками ползли по склонам гор, вмещая в себя причудливо кипевшую городскую суету, включая всхлипывающее пение муэдзина с минарета незабвенной лазурной мечети на Мейдане.
Он бродил среди уличных лавок, что неровными рядами выпирали из домов и вытесняли прохожих на проезжую часть улицы. В этом месте, под лязг сотен весов с металлическими чашками, подвешенными к коромыслу на цепочках, можно было купить всё, что только могло возжелаться душе – персидские ковры, кувшины местные и привозные, фрукты, сукно.
Здесь трудились, зарабатывая себе на хлеб, добропорядочные мастера с подмастерьями, и ремесленники, пользовавшиеся большим уважением и соблюдавшие свои законы чести: гончары, оружейники, войлочники, сапожники и башмачники, кузнецы, ювелиры и слесари. Этих вольных мастеровых и мелких торговцев называли в Тифлисе одним ёмким словом «карачохели»[35 - Карачохели – в пер. с турецкого, «носящий черную чоху».], и многие из них отличались поистине рыцарской натурой, беззаботностью и хорошими манерами. Люди эти были плечисты и сильны, облачены в чёрные шерстяные чохи, обшитые по краям тесьмой. Под чохой у них ахалухи из чёрного атласа в мелкую складку. И такие же чёрные шерстяные шаровары, широкие книзу, и заложенные в сапоги со вздёрнутым носком, голенища которых перевязаны шёлковой тесьмой. Они подпоясаны серебряным ремнём, имеют расшитый золотом кисет и шёлковый пестрый платок «багдади», заложенный за пояс, а головы их венчает островерхая папаха из шерсти ягненка, под названием «цицака», или «перец». В зубах же, для пущей солидности, некоторые карачохели дымят трубку, инкрустированную серебром.
Прямо на улице здешние портные умудрялись находить новых клиентов, снимали с них мерки, и вот, глядишь, они уже утюжат новую рубаху, размахивая в разные стороны утюгом, наполненным горящими углями:
«Снимай свою старую сорочку! Отдай в духан, пусть там ею полы моют. Такой уважаемый человек как ты должен выглядеть достойно. Вот, бери, примеряй эту! Не жмёт нигде? Ну, тогда носи на здоровье, дорогой! Как сносишь – приходи ещё! И друзей приводи! Все довольны будут!».
Пройдешь ещё пару шагов – новая встреча – цирюльник рад привести любого в человеческий вид, постричь или побрить, и даже предложит зеваке «кровь пустить» для омоложения, для чего мигом извлечёт из банки противных чёрных пиявок и приложит их к нужному месту на теле.