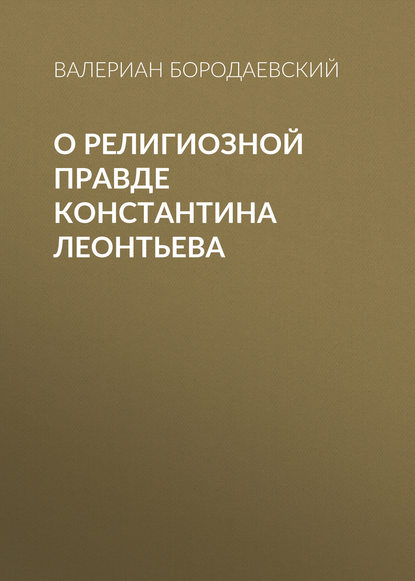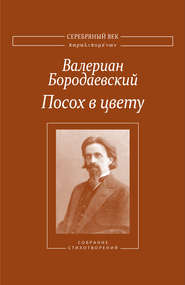По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О религиозной правде Константина Леонтьева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Валериан Валерианович Бородаевский
«…Константину Леонтьеву суждена посмертная известность. Возрастает интерес к его идеям и личности, имя его, лет 5 тому назад знакомое редким единицам, близкое лишь нескольким чудакам, которых можно было пересчитать по пальцам, слышится все чаще и чаще. Уже легенда слагается вокруг этого имени, зараз раздражающего и влекущего, а более всего пугающего. Его называют страшным и соблазнительным, пишут о гремучей змее эстетизма, погубившей неистового оптинского монаха. Образ его как бы растет в наших глазах – растет и окутывается грозными тенями, черты мрачного сатанизма открываем мы в этом «ницшеанце до Ницше», который с коварством инквизитора творит какое-то кощунственное дело над душой человеческой…»
Валериан Валерианович Бородаевский
О религиозной правде Константина Леонтьева
Константину Леонтьеву суждена посмертная известность. Возрастает интерес к его идеям и личности, имя его, лет 5 тому назад знакомое редким единицам, близкое лишь нескольким чудакам, которых можно было пересчитать по пальцам, слышится все чаще и чаще. Уже легенда слагается вокруг этого имени, зараз раздражающего и влекущего, а более всего пугающего. Его называют страшным и соблазнительным, пишут о гремучей змее эстетизма, погубившей неистового оптинского монаха. Образ его как бы растет в наших глазах – растет и окутывается грозными тенями, черты мрачного сатанизма открываем мы в этом «ницшеанце до Ницше», который с коварством инквизитора творит какое-то кощунственное дело над душой человеческой. Иные вслед за Аксаковой называют его врагом Христа и, возводя его на пьедестал, громогласно и торжественно предают анафеме. И вместе с тем какая-то правда слышится нам в этой страстной, убежденной речи, не ведавшей масок и прикрытий. – Я думаю, что изучение Леонтьева должно внести нечто новое в круг наших религиозно-философских представлений. Синтетическая, всеобъемлющая мысль Владимира Соловьева усвоялась нами односторонним образом. Если в самом Соловьеве гармонически сочетались подчинение церковному авторитету с началами рационализма и созерцательно-мистическим, то влияние его распространялось главным образом на систему мыслей, обращенных к началу рационалистическому, может быть потому, что в самом стиле его, в самой ткани его мыслей рассудочное начало всегда преобладало над эмоциональным, окрашенным сердечными переживаниями и ближе ему было доказывать нежели убеждать. Совсем иным как личность и писатель был Леонтьев. Уступая Соловьеву в широте и многообразии даров, он превосходил его остротой восприятий, страстью, которая толкала его на крайние, незащищенные позиции, влекла его к парадоксу, создала страницы, где каждая строчка живет и дышит. Темы Леонтьева волнуют нас, ответы его нам ненавистны, мы стоим перед этим образом, как перед непонятным, темным феноменом, провидя в нем какую-то странную поучительность, указываем на него и предостерегаем… И никак не подберем ключа, который раскрыл бы нам тайну этой сильной уединившейся души.
Одна за другой предстают нам разрозненные черты его как бы раздробленной, «нестерпимо сложной» природы, как говорил сам Леонтьев, и перед нами проходит то политик-реакционер, непримиримый противник либерального прогресса, фанатик общественного неравенства, не отступающий перед защитой самых жестоких форм насилия; то эстет-язычник, возлюбивший силу и красоту, борьбу во всех ее видах, если только она выявляет скрытую духовную мощь борющихся; эстета сменяет византийский монах, покорно вручающий старцу свою жестокую, слишком земную волю; вместе с тем выступает пророк, предрекающий гибель человечества «по писанию» и по разным позитивным соображениям, какой-то новозаветный Иона, жаждущий разрушения Ниневии. Богатство этой души, действительно неисчерпаемое, ставит в тупик. Как примирялись в нем эти враждебные начала, да и примирялись ли? Мы слышали только отрицательный ответ: нет, не примирялись. Леонтьев, раздираемый противоречиями, – читаем мы, – так и не смог до конца объединить религиозные чаяния с эстетическими запросами и страстями политика. О неслиянности его идеалов говорил еще Вл. Соловьев, и это суждение было принято и вошло как общее место о Леонтьеве во все, что о нем позже писалось. Задача моего доклада – осветить религиозное воззрение Леонтьева, отметить эту правду, которую он утверждал, однако мимоходом лишь придется коснуться и всех сторон его духа. Здесь прежде всего я должен сказать, что мировоззрение Леонтьева остается загадочным, пока мы не установим основного начала, образующего стихию его духа, некоторой общей психической предпосылки, которая определила сложный узор его духовного облика. Многоликость его может быть понята лишь при общем начале, иначе Леонтьев погиб бы не только метафизически – как о нем думают иные, – но и здесь, в земном круге, обратился бы в какое-то мятущееся перекати-поле, чего, однако, не случилось.
Объединяющий центр в этой душе был, был фундамент, на котором строил он свое мироощущение, а позже – после пережитого религиозного кризиса – утвердил себя в религиозной народной стихии русской души. Этим первичным в Леонтьеве был иерархизм, инстинкт иерархизма, с которым он родился и жил и сошел в могилу. Инстинкт этот охватывал и сближал обособленные сферы – эстетизма, реальной политики, мистики. Он был вдохновителем и целителем Леонтьева в его скорбях и страданиях, им был он водим и в своем тяготении к прекрасному, поскольку видел в нем воплощение идеального иерархизма, и в сфере социальных отношений, где искал он и требовал стройной системы соподчиненных сил, и, наконец, в сфере религиозной, которую он всецело предавал водительству церкви, ее догматов и учению, утверждающему извечный иерархизм духовного мира. Такова стихия леонтьевского духа. Над ней воздвигалось нечто иное, высшее. Если иерархист Леонтьев призван был определенным образом чувствовать и мыслить, мистик Леонтьев еще более определенным образом, с абсолютной для себя достоверностью нечто ведал. Здесь мы подходим к сокровенному Леонтьева, здесь мы можем познать его не только в общепризнанном качестве эстета, радеющего о каком-то крайнем сверхправославии и по упорству ли, капризу ли выворачивающего наизнанку привычные представления и вкусы культурных его современников, а поймем в нем мистика, который знал, куда он идет и чья рука ведет его. Я говорю о религиозном опыте Леонтьева. Я говорю о его обращении летом 1871 года, после которого, как утверждал Леонтьев, он от веры и страха Господня отказываться уже не мог, если бы даже и хотел.
Книга Аггеева, с. 80-81
Мимо этого документа высочайшей религиозной важности нельзя пройти. Он говорит о высшем Леонтьева, о том мистическом опыте, который был для него убедительнее всех диалектических доводов вместе взятых. Страх смерти явился одним из слагаемых этого опыта. Блаженный Августин говорил в своей исповеди (кн. IV, гл. 16) о годах, предшествующих обращению: «Ничто не останавливало меня на широком пути, ведущем в глубину зол… Только страх смерти и будущего суда, только один этот страх служил для меня некоторым обузданием». После этого как-то даже скучно обосновывать примат страха Божия, вырастающего из темного, животного страха, слушать возражения о том, что первично, что выше: страх или любовь. Важно понять целостное религиозное переживание, определившее все дальнейшее, то откровение, которое понято было как чудо, как чудесное предстательство Божьей Матери, вырвавшей погибающего человека из челюстей смерти, человека, ужаснувшегося этой безвременной смерти, которая разверзла перед его духовным взором врата вечной гибели. Богоматерь – ощутил он – осенила смятенный дух своим покровом; духовный страх перешел в упование на божественную любовь; Вседержитель явил отчий лик, но забыть это начало Божьего страха он уже не мог. Отвага и дерзновение его позднейшей мысли зиждились на той уверенности, что он не может быть оставлен водительством Божьим, если пребудет верен данному обету: «Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, постригусь в монахи». Все это поразительно цельно, как бы даже – для наших дней – наивно… Странные слова, которые были бы так обычны для человека прежних времен…
Свято исполнил этот свой обет Леонтьев, и религиозное чувство его неразрывно слилось с богоощущением русского народа; не потребовалось опрощения, потому что не выводить народ из церкви призван был Леонтьев, а войти в нее самому и поклониться общей народной святыне. Отмежевать себя от иррелигиозных начал стремился Леонтьев вплоть до отречения от современной Европы и европейского, с тем чтобы постичь единство кафолической церкви и признать («Вост<ок>, Рос<сия> и слав<янство>», т. II, с. 306), что «Римская церковь все-таки великая и Апостольская, несмотря на все глубокие догматические ошибки, отделяющие ее от нас».
Как религиозный тип исторически и психологически Леонтьев стоял на почве второго момента Гегелевой триады – антитезы. Дух антитезы вообще был мощным двигателем его мысли. «Эстетику приличествует, – говорил он, – во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности – за строгость; художнику прилично быть либералом – при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии, немножко libre penseur при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии». Здесь неожиданное совпадение с Байроном. «Первый момент общей республики обратил бы меня в защитника деспотизма», – писал Байрон в одном из писем к Томасу Муру. Этот общий дух протеста против ходячих ценностей в области религиозной мысли вдохновлял его к защите чуждых современному религиозному сознанию основ христианства: страха, послушания, подвига. Основы эти, являясь в историческом процессе вторичными, – генетически должны быть признаны начальными, исходными, потому что в душе человеческой любовь не предшествует страху, а следует за ним, свобода вырастает из послушания и благодать из подвига, а не наоборот. Именно потому утверждение этих начал Леонтьевым имеет не только субъективную, относительную, но и пребывающую ценность.
Это в области религиозной правды. В области философствования о вере утверждал Леонтьев откровение, упраздняя права рационализма, проповедовал антропологический пессимизм, долженствующий прийти на смену антропологическому оптимизму. Отсюда его борьба с аморфным морализмом, с тем, что он называл «розовым христианством». Отсюда же аскетизм, культ мученичества, ненависть к внецерковной культуре, к республике всеобщей сытости.
Последуем за Леонтьевым в его догматических утверждениях. Любовь и страх… «Любовь моральная, т. е. искреннее желание блага, – пишет Леонтьев, – сострадание или радость на чужое счастье и т. д. может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, т. е. производимая (без всякого влияния религии) большой природной добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже лучше естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви или милосердия может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей». «Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть страх, а любовь – только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом». «И поэзия земной жизни, и условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы… а, говоря объективно, некой как бы гармонической, ввиду высших целей, борьбы вражды с любовью. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут естествен вопрос: «Кому же взять на себя роль разбойника, если это не похвально?» Церковь отвечает на это не моральным советом, обращенным к личности, а одним общеисторическим пророчеством: «Будут разбойники». «Смирение, шаг за шагом, ведет к вере и страху под именем Божиим, к послушанию учению Церкви, этого Бога нам поясняющей. А любовь – уже после. Любовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая – это плод, венец, это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, натуре сообщенный, или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленный». «Гуманность есть идея простая: христианство есть представление сложное. В христианстве между многими другими сторонами есть и гуманность или любовь к человечеству «о Христе», т. е. не из нас прямо истекающая, а Христом даруемая и Христа за ближним провидящая. От Христа – и для Христа. Гуманность же простая, «автономическая», шаг за шагом, мысль за мыслью может вести нас к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому [умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать mania democratica progressiva».
От Христа – и для Христа. Этими словами христианская любовь возведена Леонтьевым на ту религиозную высоту, на которой утверждают ее глубочайшие мистики христианского мира. В «Разговоре о сверхчувственной жизни учителя с учеником» Якова Беме на вопрос ученика: каким образом то, что делается человеку, приемлется за сделанное самому Христу, учитель отвечает: Христос существенно живет в совершенно предающихся Ему, в вере их, и дает им в пищу плоть свою и в питие кровь свою, обладая, таким образом, в вере их внутренним человеком… Творящий что христианину, творит то также Христу и членам собственного тела и даже самому себе, если он Христианин, ибо во Христе мы все едино, как дерево с своими ветвями есть одно дерево.
Все эти выписки, которые могли бы быть дополнены многими другими, ведут к общему утверждению: любовь как естественное личное расположение души есть дар, а не предмет религиозной обязанности, и потому не может быть задачей религиозного делания. Плодотворной любовь становится лишь на почве верующей и возрожденной души.
Возрождение это начинается прежде всего страхом Божьим. «Страх [же] доступен всякому, – утверждает Леонтьев, – и сильному, и слабому; страх греха, страх наказания и здесь, и там, за могилой… Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет власти над собою, власти видимой, осязательной; он начинает любить эту власть духовную, мистически, так сказать, оправданную перед умом его. Страх Божий, страх греха, страх наказания и т. п. уже потому не может унижать нас даже и в житейских наших отношениях, что он ведет к вере, а крепко утвержденная вера делает нас смелее и мужественнее против всякой телесной и земной опасности: против врагов личных и политических, против болезней, против зверей и всякого насилия…» «Смесь страха и любви – вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят… Смесь любви и страха в сердцах. Священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное только для политики; благоговение при виде даже одном иных вещественных предметов». Начало страха есть одно из начал, наиболее чуждых современному религиозному сознанию. Поразительно, что большинство писавших о Леонтьеве даже и не заметили, с какой легкостью перескочили они через эту идею мистического страха. Они говорили только о безблагодатном Леонтьеве, не знавшем любви… И от мистических корней религии переходили к соображениям исключительно психологического характера: Леонтьев жесток, Леонтьев не просветлен… Да, жесток и не просветлен, но разве это сколько-нибудь умаляет значение того, что он говорил? Или только Леонтьеву было чуждо то, что он называл «ежечасным незлобием, ежеминутной елейностью»? Но он не мог забыть религиозного опыта своего: «Дурной страх, – мог бы он повторить вслед за Паскалем, – происходит не оттого, что люди верят в Бога, а оттого, что они сомневаются, есть Он или нет Его. Добрый страх соединен с надеждою, потому что он рождается из веры и потому что люди надеются на Бога, в которого веруют; ложный страх соединен с отчаянием, потому что человек боится Бога, в которого он не имеет веры. Одни боятся потерять Его, другие боятся найти Его».
Свобода и послушание… Леонтьев, душа которого жаждала иерархизма, не мог иначе как с ненавистью говорить о свободе самочинной, иерархии не признающей. Сам он принял обязывающий обет послушания, здесь пафос его утверждений и отрицаний достигает высочайшей силы и напряжения. Принципы 89-го года не имели большего ненавистника, чем Леонтьев; здесь он не знал пощады, и в его ярых нападениях мы, разумеется, без труда отличим забвение меры и границ – огульное отрицание Запада, разрушенного либерально-эгалитарным прогрессом. «Как мне хочется теперь, – писал он в ответ на [странное] восклицание [г.] Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!», – воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: – «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного своим заразительным дыханием!..» Если такого рода ненависть «грех»… то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к Церкви… Я говорю – к Церкви, даже и католической, ибо если б я не был православным, то желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом или либерал-демократом!!! Уже это слишком мерзко!» «Либерализм, – утверждает Леонтьев, – есть отрицание всякой крайности, даже и самой высокой, всякого стеснения, всякого стиля. Он везде один, везде одинаково отрицателен; везде одинаково разлагает нацию медленно и легально, но верно» (Перед<овая> статья Варш<авского> днев<ника> 1880 г.). «Пора положить конец развитию мещански-либерального прогресса! Кто в силах это сделать, тот будет прав и перед судом истории!» «Стоит только юноше сказать себе (В<осток>, Р<оссия> и сл<авянство>, т. II, с. 41): «я не знаю, что такое вещество и никогда не узнаю здесь, на земле», чтобы шаг за шагом, от сомнения в твердости и точности всех научных основ он бы скоро дошел до веры в дух, от веры в дух до веры в личного Бога, от веры в личного Бога до искания форм сношения с Ним, до положительной религии; от положительной религии до живого патриотизма, до «страха Божия»», «до любви к предержащим властям, ибо истинное христианство учит, что какова бы ни была по личным немощам своим земная иерархия, она есть отражение небесной». Здесь мысль Леонтьева доведена до последней остроты и обнаженности. Леонтьев, защитник власти, не был консерватором в обычном смысле слова. «Быть просто консерватором в наше время было бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение». Он взывает к творчеству – творчеству, которому гордо дает имя реакционного, отмечая лишь, что эта реакционность не совпадает с понятием регресса. В статье «Национальная политика как орудие всемирной революции» он говорит, что «охранение от неразвитости, от отсталости ненадежно; надежно созидание нового высшим, более развитым классом, за которым рано или поздно следует народ». На этом пути мысль Леонтьева идет очень далеко. Ему рисуются широкие перспективы иного, обновленного строя, какого-то своеобразного мистического социализма. «По нашему мнению, – говорит он («А. И. Кошелев и община»), – одним из главных призваний славянства должно быть именно постепенное уничтожение в среде своей того свободного индивидуализма, который губит все современные общества. Чтобы выразиться яснее, вообразим себе рядом с крестьянскими мирами, сравнительно бедными, безграмотными или мало образованными, – другие общины: богатые, просвещенные и вместе с тем религиозные; свободно, положим, вначале собравшиеся; но вследствие гнетущей, однако, силы обстоятельств постепенно потом сложившиеся не в простые обыкновенные ассоциации, подвижные и неосновательные, как и все, собственно, нынешнее, а в корпорации обязательные и строгие, напр<имер> как бы вроде монастырей, но с семейным характером. Такие корпорации, богатые и сильные умственно, к тому же либерализму личному вовсе чуждые, могли бы успешно бороться и отстаивать как себя, так и все остальное, носящее на себе печать общинности, против всякого внешнего излишнего давления».
Отрицая внецерковный индивидуализм, призывая к своеобразному мистическому коллективизму, проникнутому до конца началом иерархии, Леонтьев вдруг как бы неожиданно взывает к умственной дерзости (в статье «Храм и Церковь»), свойственной всем истинно культурным, творческим народам, и утверждает силу созидания, которая есть прежде всего прочная дисциплина интересов и страсти.
Рассказ Леонтьева о преступлении раскольника Куртина и казака Кувайцева не раз приводился в печати. Куртин зарезал родного сына, семилетнего мальчика, веруя, что исполняет волю Бога; Кувайцев отрыл труп любимой женщины, отсек руку и палец и хранил у себя под тюфяком. «Обыкновенный суд, – замечает Леонтьев, – так же как и справедливая полицейская расправа, суть проявления правды внешней, и ни государственный суд, ни суд так называемого общественного мнения, ни полицейская расправа не исчерпывают бесконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигнуть общие правила законов и общеповальные мнения людей. Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй, но там только сильна и плодоносна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почтенный судья, осудивший их». В этом рассказе весь Леонтьев, вся игра светотеней его безгранично отважного духа. Здесь и эстетизм его, и до конца не преодоленная жестокость, этот темный огонь мятущейся страсти, и утверждение какой-то неземной свободы духа человеческого. Эту свободу горячо приветствует Леонтьев, так как здесь она развивается перед ликом Божиим, и самые грехи и падения ее проникнуты духом Боговластия. Начало власти красной нитью проходит через все его речи, так или иначе касающиеся политики. «Государственная сила, – пишет он, – есть скрытый железный остов, на котором великий художник – история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни». Я не буду останавливаться на политических идеях Леонтьева, на культе грозной и жестокой государственности, которую – мечтал он – произвела и может еще явить Россия, не до конца разъединенная западным началами. В громоздкой колеснице русской реакции Леонтьев был, в сущности, пятым колесом. Слова его не были действенными, хотя многое делалось так, как хотел Леонтьев. Неуспех его личной проповеди, недостаток понимания к тому, что он говорил, были так разительны, что Леонтьев иногда прибегал к некоторому мистическому толкованию этого необъяснимого для него и его друзей явления. Так, например, он говорит («Национ<альная> полит<ика> как оруд<ие> всемир<ной> революц<ии>»): «Провидению не угодно, чтобы предвидения уединенного (одинокого) мыслителя расстраивали бы ход истории посредством преждевременного действия на слишком многие умы». Ему не суждено было охранить железный остов государственности (к концу дней вера Леонтьева в крепость этого остова ослабевала), и не на него было возложено дело наколачивания железных обручей, которые сковали бы разлагающееся изнутри государственное тело. Если Леонтьев в своих политических утверждениях мог заблуждаться, то, утверждая Церковь как реальное мистическое тело Христово, как строго иерархический строй, который имеет совершенно особую, независимую от земных случайностей, навеки пребывающую ценность, он утверждал себя право и незыблемо. Здесь лежала граница его свободному самоопределению, и, стоя на этом камне, он, конечно, не мог творить «дела Антихристова».
О подвиге Леонтьев писал много и красноречиво. Книга о Клименте Зедергольме почти вся посвящена уяснению с разных сторон этого начала. «Христианство в основании своем [есть] безустанное понуждение о Христе; и все наши добрые качества, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу духа и плоти, суть не что иное, как дары Божий. Заслуга только в вере, покаянии и смирении, если не можешь понудить себя; все невольно хорошее в нас, все естественно-доброе есть дар благодати для облегчения борьбы. Когда вопреки сухости сердца и равнодушию ума идет христианин в церковь или дома становится на принудительную молитву, это выше с точки зрения личной заслуги, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая»
. – Когда говорят, что эстетизм Леонтьева состоял в разительном противоречии с его христианскими представлениями, в том числе с началом подвига, что тут было самосожигание Леонтьева, я думаю, это большое недоразумение. Эстетику считал он лучшим мерилом для истории и жизни, потому что мерило это может быть приложено ко всем векам и странам, исповедующим любое вероучение, и охватывает лица и события, которые не могли бы быть оправданы чисто моральным критерием. «Даже некоторые святые, признанные христианскими, не вынесут чисто эстетической критики», – отмечает Леонтьев, а это для него довод решающий и не против суровых, жестоковыйных святых, создавших Церковь, а против самого отвлеченного критерия. Эстетике оставлено, таким образом, широкое поле применения в той области, где христианское начало либо отсутствует, либо слабо проявлено. Здесь, иными словами, утверждается мысль, которую не раз высказывали, что всякое событие, всякий поступок, способные стать предметом художественного произведения, одним этим получают свое оправдание. В случае же столкновения этических норм с требованиями христианства в христианской душе, – говорил Леонтьев, – победу должно одержать христианство. Борьба этих начал в душе не может быть осуждена как нечто недостойное, эта борьба – основа всякого подвига, который есть постоянное «понуждение о Боге» или «предание» себя Богу, т. е. в подвиге должно различать начало активное и пассивное.
Оба эти начала, обычно в слиянном виде, изучены Леонтьевым. Начало активного подвига Леонтьев вносит в самое сердце религиозных убеждений, и здесь он особенно характерен: «Я верую, – говорил он Зедергольму, – потому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым, дурным и неизгладимым привычкам европейского, либерального воспитания <это> кажется лишь абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд… Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу вам, что это лучший, может быть, род веры… Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняешься ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, мне кажется, это настоящая вера. Конечно (добавляет он), то, что я говорю, не слишком смиренно. Это гордость смирения».
Слова эти, столь раздражающие наши обычные представления о вере, могут быть дополнены и освещены тем же Паскалем, который посвятил вопросу об отношении веры к подвигу много проникновенных страниц. Так, утверждает он совершенно по-леонтьевски (с. 124 и 125): «Поймите, по крайней мере, свое бессилие верить, если уж разум заставляет, а вы все так и не можете верить, старайтесь же убедить себя не умножением доказательств в пользу Бога, а уменьшением ваших страстей. Вам хочется дойти до веры, и вы не знаете дороги; вы желаете излечить себя от неверия и просите лекарств: учитесь у тех, которые были прежде связаны, как и вы… Эти люди знают дорогу, по которой вы хотите идти, исцелились от болезни, от которой вы хотите исцелиться. Начните с того, с чего они начали, т. е. поступите совершенно так, как если бы вы верили: берите святую воду, заказывайте службы и т. д.». Чтобы кончить с вопросом о подвиге, я приведу еще страницу из «Pensеes» Паскаля, уясняющую страдательную, пассивную сторону религиозного подвига: «Правда, что трудно вступать на путь благочестия. Но эта трудность происходит не от благочестия, которое зарождается в нас, но от нечестия, которое остается еще в нас. Если бы наши чувства не противились раскаянию, если бы наша испорченность не противостояла чистоте Бога, то в этом не было бы ничего трудного для нас. Мы терпим лишь настолько, насколько врожденный нам порок противодействует благодати, которая выше нашей природы. Наше сердце чувствует себя растерзанным этими противоположными усилиями. Но было бы несправедливо приписывать это насилие Богу, который привлекает нас, а не миру, который нас удерживает. Это все равно, что дитя, которого мать вырывает из рук воров: оно должно, хотя и терпит боль, любить законное и полное любви насилие той, которая дает ему свободу, а отвращение питать только к буйному и тираническому насилию людей, незаконно его задерживающих». Страх, послушание и подвиг вводят верующую душу в Церковь и здесь, в меру даров каждого, преобразуются в высшие начала: из религии закона вырастает религия благодати. Неколебимой пребывает эта Церковь, воздвигнутая на Петровом камне, его же врата адовы не одолеют. Исторический Петр не может допустить маловерного сомнения в своей незыблемости, даже видя вокруг себя бушующее море, как Петр-апостол, по волнам идущий ко Христу. Утверждающий эту Церковь утверждает и себя в своем совершенстве, укрепляет духовную связь между собой и мистическим телом Богочеловеческого всеединства.