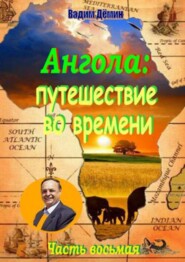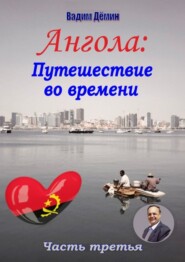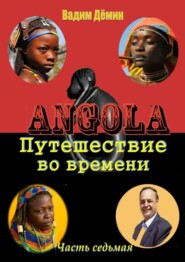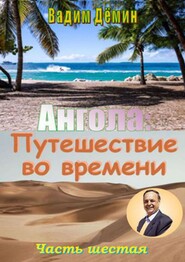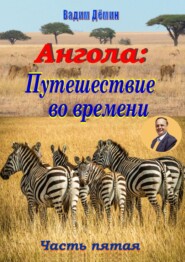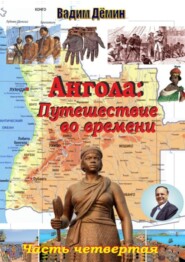По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ангола: Путешествие во времени. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этих «народных магазинах», о которых писал корреспондент газеты «Жорнал ди Ангола» Гарридо Фрагосо, мы бывали не раз, но никогда не обращали внимания на то, за какой месяц там выдавали продукты. Вернее не знали. Поэтому не задумывались об этом. А оказывалось, что ангольские талоны не «сгорали» как у нас.
Некоторые продукты, реализуемые по государственным ценам и выдаваемые по специальным карточкам, на прилавках отсутствовали. Взять хотя бы тот же рис. Он мог свободно продаваться в этом же магазине, но уже по коммерческим ценам, в несколько раз превышающим государственные. Но его можно было выкупить в следующем месяце.
На каждого покупателя в магазине заводилась личная карточка, по которой ему выдавались продукты. Цены здесь были смехотворно символическими по сравнению с рыночными. Однажды мы с женой даже «купились» на это. Увидев на ценниках, приклеенных на банках с оливковым маслом и рыбными консервами (не четырехзначные, а трехзначные цифры), мы радостно сгребли с полки в корзину несколько банок и поспешили к кассе.
Держа в руках заветные денежные купюры, мы заняли очередь в кассу, в уме прикидывая, какую сумму предстоит заплатить. Наконец настала наша очередь. Положив деньги в блюдце, мы выложили свои покупки на прилавок, но кассирша на них даже не посмотрела. Она невозмутимо механическим голосом произнесла:
– Seu cart?o, por favor (Вашу карточку, пожалуйста!)
– Que cart?o? (Какую карточку?) – не поняли мы с женой и переглянулись между собой.
Увидев на наших лицах неподдельное удивление, она сразу все поняла, достала из-под прилавка какую-то бумажку и ткнула в нее пальцем:
– Esta! (Эту!)
Документ представлял собой небольшую картонку, размером с пачку сигарет, сложенную пополам.
Мы успели заметить, что на лицевой стороне была приклеена фотография и указывались личные данные владельца: фамилия, имя, домашний адрес и еще что-то – не успели рассмотреть. На развороте – графы-месяцы, в которых делались отметки о посещении магазина.
Основной документ, карта побольше, хранилась в офисе магазина. В нее ежемесячно вписывались проданные покупателю продукты. Таким образом, исключалась повторная выдача пайков законным владельцам карточки, а также продажа продуктов питания посторонним лицам.
– Estа? (Эту?), – переспросили мы и с досадой развели руками. – Nоs n?o temos nenhum cart?o! Sem um mapa е imposs?vel? (У нас нет никакой карты! А без карты нельзя?).
– N?o! (Нет!) – сказала, как отрезала «знойная креолка цвета шоколада».
Подошедший к нам по ее сигналу охранник выбрал из корзины те продукты, которые продавались по карточкам, и отнес их обратно на стеллаж, а мы, рассчитавшись за оставшиеся (цена на которые, кстати, была нисколько не дешевле чем на «Роки»), вышли наружу.
И уже при выходе услышали за спиной приглушенное:
– Como incomodando! Precisamos de comida – ir ao paralelo! (Как все достали уже! Нужны продукты – идите на «параллельный» рынок!)
– Agradecer humildemente! (благодарю покорно!), – вежливо, но с иронией проговорил я, оглянувшись на нее, тем самым дав понять, что со слухом у меня все в порядке.
Это был для нас первый урок.
Возвратившись в торгпредство, мы рассказали друзьям о случившемся с нами в магазине конфузе и попросили разъяснить ситуацию. Нам с улыбкой ответили, что мы не первые, кто таким образом попадал впросак. Просто мы были невнимательны, а потому не обратили внимания на объявление, висевшее у входа в магазин. Оно гласило о том, что продукты продаются только по предъявлению карточек.
У нас, в Советском Союзе многие продукты также продавались по талонам. Но их надо было вовремя «отоварить». А вначале – выстоять за ними длинную очередь в собесе или на предприятии, и только потом отправиться по магазинам. Нередко в очередях (особенно в винно-водочных магазинах) возникали конфликты, доходившие даже до потасовок и рукоприкладства, поскольку магазины открывались и закрывались строго по расписанию, а многие, уйдя с работы, едва успевали к его закрытию. Поэтому каждый стремился прорваться к прилавку как можно быстрее, чтобы отовариться, при этом не перепутать и не отдать по ошибке талон на сахар вместо талона на масло или туалетную бумагу.
Вторая проблема. Необходимо было реализовать талон в строго установленные сроки, чтобы он не пропал позже указанной даты, при этом успеть оббежать несколько магазинов, чтобы найти нужный продукт.
В отличие от советской талонной системы, ангольские власти гарантировали выдачу каждому жителю его законного «пайка». Если кто-либо не получил продукты в этом месяце (по причине отсутствия товаров в торговой сети), он мог его выкупить в следующем. Надо было только подождать и регулярно наведываться в свой магазин, к которому прикреплен по месту жительства. А главное, цены были доступными. Приобретая продукты, ангольцы не успевали их съедать полностью, поэтому несли излишки на рынок. В магазине «набор» стоил от 2 до 4 тысяч кванз, а на рынке за него выручали все 50, а то и больше!
Система торговли в Анголе была своеобразной. Так называемые «народные магазины» государственного сектора снабжали население продуктами питания первой необходимости (крупа, сухое молоко, масло и пр.). Кроме них функционировали и другие магазины, посещаемость которых была также высока.
В Луанде работали две крупные оптово-розничные торговые организации «Ангошип» и «Катермар». Эти, совместные с иностранными фирмами предприятия торговли, поставляли на ангольский потребительский рынок продукты питания, предметы бытовой химии, личной гигиены и пр. Торговля в них велась исключительно за валюту (что-то похожее на наши советские «Торгсины», «Березки» и «Альбатросы»).
К 1990 году «Катермар»[8 - CM CATERMAR – торговый знак компании Catermar-Companhia Hoteleira Maritima, S.A., 1200 Lisboa, (Лиссабон, Португалия)] действовал в Анголе более 12 лет и главным образом, обслуживал предприятия общественного питания. Основным направлением деятельности этой фирмы была торговля кондитерскими и кулинарными изделиями, гастрономическими, бакалейными и другими товарами.
Торговую сеть «Катермара» составляли 3 магазина самообслуживания, расположенные в городах Луанда, Сойо, Лобиту, которые обеспечивали продуктами питания работников нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий, в стране (за исключением «Эльф» и «Фина-Петролеоз»), являющихся частными иностранными компаниями, поэтому заботу о своем персонале брало на себя руководство этих компаний.
В перспективе руководство этих фирм планировало в короткий срок построить несколько новых сооружений, таких как Торговый центр, склады для хранения продуктов питания, несколько кондитерских цехов, чтобы таким образом расширить сферу своего влияния и завоевать рынок сбыта своей продукции.
Владельцами «Ангошипа» и «Катермара» выступали ангольская сторона и некоторые западные фирмы. Но государство рассчитывало в будущем установить полный контроль над их деятельностью, объединив все существующие в стране магазины, в которых торговля велась за валюту, в единую сеть, чтобы управлять ими централизованно. Планировалось также выработать меры, стимулирующие желание руководителей этих магазинов больше вкладывать средств в производственный сектор, расширять мощности торговых организаций и бороться за увеличение клиентуры.
Обо всем этом говорилось на совещании ответственных работников торговых организаций, состоявшемся в Луанде. Министр торговли и промышленности НРА Думилде Рангел посетил магазины «Ангошип» и «Катермар» с целью более детального ознакомления с их деятельностью. Но вряд ли руководители добровольно отдали бы бразды правления в руки государства, лишив себя свободы и инициативы. А главное – прибыли. И пока решался вопрос: быть «Ангошипу» и «Катермару» или нет организациями, жестко контролируемыми государством, они продолжали преуспевать в бизнесе.
Для справки. В 2006 году компания «Catermar Ангола», обанкротилась, а руководители компании – два португальца, Lu?s Correia de Sа и Manuel Sа e Melo спешно, не уведомив ангольскую сторону, покинули страну. По решению суда были назначены доверенные лица, которые стали управлять компанией. Более двухсот сотрудников, многие из которых работали здесь с 1992 года, остались без зарплаты и с большими долгами от компании. Конфликт длился 10 лет.
В отличие от «народных магазинов», поставки в них продуктов происходили бесперебойно, потому что руководство «Ангошипа» и «Катермара» заключало прямые договора с иностранными поставщиками. Товары приходили главным образом из Европы. И, прежде всего, из Португалии. Конечно, здесь также бывали перебои, но связаны они были с тем, что проделав длинный путь через Атлантический океан, контейнеры с грузом оказывались разворованными самими же ангольцами уже в луандском порту.
Ежедневно жители города оставляли в этих магазинах десятки тысяч долларов. Возникал законный вопрос: откуда брались такие деньги у населения, если официально хождение валюты в стране было запрещено, а ангольцам не хватало денег даже на самое необходимое? Существовало несколько путей, по которым иностранная валюта попадала в кошелек ангольца.
Первый – официальный. Многие иностранные компании выдавали своим сотрудникам заработную плату в валюте, зачастую, даже не наличными, а начисляли их на депонент, с которого можно было снять определенную сумму в Национальном банке.
Второй – незаконный, но наиболее распространенный и самый доступный. «Точки», на которых работали от зари до зари «менялы», известны были даже детям. Чаще всего это рынки, магазины, в которых торговали за валюту. Те, у кого не было долларов, марок или фунтов стерлингов или кто не хотел связываться с валютой, перекупали товар у других людей за кванзы здесь же, у дверей магазинов и нес на продажу на рынок.
Наибольшим спросом пользовались прохладительные напитки (пиво, минеральная вода, «Coca-cola», «Sprite», «Fanta» и другая «газоза» (gasosa – газированная вода, лимонад, serveza – пиво). Этот товар перепродавался тут же, как говорится, «не отходя от кассы». Конечно, администрация магазина следила за тем, чтобы не было перепродажи товара непосредственно в помещении магазина, но стоило только покупателю выйти с ящиком пива на улицу, как к нему подбегали торговки, и чуть ли не вырывая ящики из рук, настойчиво «уговаривали» продать им товар. Причем предлагали цену, значительно превышающую ту, за которую он только что был приобретен.
Объяснялось все очень просто. Чтобы понять механизм реализации, достаточно было посетить ближайший рынок. Там пиво уже стоило в два – три раза дороже, чем его перекупали непосредственно возле магазина. Все дело было в низком, искусственно заниженном курсе доллара. Чтобы все поняли это, объясню на простом примере. К примеру, по официальному банковскому курсу (1 доллар=30 кванз) банка пива в магазине стоила от 50 до 80 центов (а в нашем магазине при посольстве, в зависимости от сорта, и того ниже – 45—50 центов). На рынке ее цена сразу же взлетала до 1 500 кванз (или в пересчете по официальному курсу – 50 долларов). Вот почему местные жители предпочитали заниматься этим видом бизнеса – переводя доллар из банковского уровня – в рыночный.
Именно благодаря ему, месячный заработок среднего луандца (не всех, конечно, а тех, кто занимался подобным бизнесом) составлял в среднем от 15 до 20 тысяч кванз в месяц. У ангольцев на этот счет существовала даже поговорка: «Comprado por aqui – eu vendi lа fora!»(Купил здесь – продал там!).
Мы долго не могли понять, почему существующий официальный курс доллара был так занижен? Объяснение было простым: местная денежная единица катастрофически девальвировала и для того, чтобы поддержать ее «на плаву», для официальных расчетов придумали такой «выгодный» курс обмена.
Хотя… Когда-то и у нас в стране наблюдалась аналогичная ситуация. Помнится, с 1971 по 1990 г., т.е во времена СССР, 1 доллар стоил всего от 58 до 83 копеек! Но после его распада, как говорится, пошло-поехало:
– в 1991-м – Госбанк ввел Коммерческий курс (в апреле он был равен 1,75 рублей, а на чёрном рынке – 30—33 рубля);
– в июле 1992 – введение свободного курса рубля;
– 11 октября 1994 случился «Чёрный вторник» и за один день курс доллара возрос с 2 833 до 3 926 рублей;
– 1 января 1998 – деноминация рубля и за доллар давали 5,6 рублей;
– 16 августа 1998 (за день до дефолта) – 6,29;
– 9 сентября 1998 (т.е. спустя всего три недели) – максимальный последефолтный подъём курса доллара – 20,8 рублей.
А далее – его уже было не остановить. О не полз, а взлетал вверх!
Поэтому не удивительно, что в Анголе существовало два уровня жизни: первый – официальный или государственный, с его приемлемыми для населения ценами и заработной платой: каковы цены, такова и зарплата. Заработная плата среднего ангольца составляла около 2—3 тысяч кванз в месяц (67-100 ам. долларов), но что на нее можно было купить?
И второй – «чернорыночный», с его ужасно высокими ценами, но… дающий определенной части населения ни с чем несравнимый доход.
18. На всех фронтах без перемен…
11 сентября 1990 г.