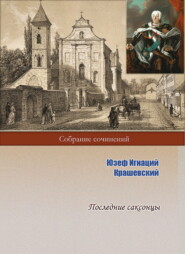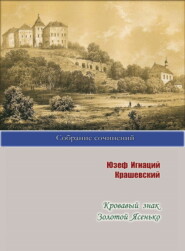По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хата за околицей; Уляна; Остап Бондарчук
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А-а! Помню, помню, какая-то история у тебя вышла… свадьба… моя жена… что-то… что с тобой сделали?
Цыган, никогда не воображавший, что кто-нибудь может забыть его горе, вытаращил глаза на зевающего барича.
– Так расскажи мне все от начала до конца, – прибавил Адам, – я ничего не помню.
Кто был в положении Тумра, тот поймет, как тяжко было ему исполнить приказание, но он собрался с духом и рассказал свою историю, а пан выслушал ее, не сделав ни малейшего движения.
Несмотря на то что рассказчик в общих только чертах представил бедственную свою участь, однако ж, он успел расшевелить внимание пана.
«Странная идея родилась тогда в голове моей жены, – подумал он, – состряпала свадьбу и вооружила против молодых все село. Не случись этого, цыган пошел бы своею дорогой, а девку выдали бы за кого-нибудь другого. Теперь что я сделаю?..»
– Чего ж ты хочешь? – спросил он, подумав немного. – Я не могу приказать, чтобы любили тебя, с миром трудно сладить! Не лучше ли было бы, если б ты переселился в другую деревню?
– Куда? – спросил цыган. – Я поставил здесь избенку, уж довольно поту пролил я на этой земле. Жена родилась тут, привыкла, да ей и не время тащиться за мной… Хочу выстроить кузницу, да не на что, будет где работать, будут ходить наперед чужие, а там и свои…
Пан улыбнулся и покачал головой.
– Попробуй, если хочешь, – сказал он холодно, – я тебе, пожалуй, помогу, но я знаю, ничего не будет.
Говоря это, он вынул из кармана деньги, отсчитал десятка два-три рублей и бросил на стол с такой гордой холодностью, что его доброе дело почти оскорбило цыгана. Но делать было нечего, он принял милостыню и, потешив щедрого пана рассказом подробностей своего горемычного житья, вышел со двора довольный, счастливый.
«Нужно посмотреть на эту хату за околицей, о ней, кажется, уже мне люди говорили, – думал пан, – да, любопытно, очень любопытно… Счастливы эти люди! Как им хочется жить, как мало им надо!»
Настроив мысли на прежний лад, пан снова начал зевать, а между тем Тумр бежал к избенке порадовать жену. Сумма в самом деле была достаточна для того, чтоб выстроить кузницу и купить необходимые орудия, но приниматься за работу было поздно.
Мотруна, завидев мужа, вышла к нему навстречу. Увидев деньги, она обрадовалась и изумилась.
– Что мы теперь станем делать? – спросила Мотруна.
– Кузницу выстрою, надо ждать до весны, теперь немного сделаешь, а денег трогать не будем… На хлеб пойду опять работать. Помаемся зиму, а там все пойдет хорошо.
– А может быть, этих денег и на хлеб, и на кузницу хватит? – нерешительно заметила Мотруна.
Цыган в ответ покачал головой.
– Нет, голубушка, о том нечего и думать, – сказал он после минуты раздумья. – Деньги, как вода, уходят… Эти истратим, других не найдем… Закопаем вот здесь, в уголок, пусть ждут до весны.
– Пусть ждут, весна недалеко.
– Теперь легче будет ждать, посмотрим, что скажут в селе, как тут, на горе застучит мой молот?..
Медленно протащилась зима со своими вьюгами, морозами, оттепелями, а в хате за околицей ничто не изменилось. Янко привык служить жене цыгана и привязался к этому скаредному жилищу нищеты, потому что здесь только говорили с ним как с человеком, любили его как брата. Предусмотрительный Янко сплел корзинку для люльки и во избежание дурных предзнаменований повесил ее под крышей.
Тумр постоянно ходил в Рудню, его услугами там пользовались с тем большей охотой, что он мастер своего дела и усердно работал за самую ничтожную плату. Жители Рудни не раз смеялись над ставичанами, имевшими у себя дома отличного кузнеца и ходившими за несколько верст точить топоры. Случалось, что ставичане приходили и в Рудню к кузнецу, Тумр работал для них так же, как и для других, но ни разу не обменялся с ними ни полсловом.
Только что начала показываться зелень, Тумр нанял работника и принялся за постройку кузницы, он рассчитывал, что рабочее время принудит упрямых ставичан обратиться к нему. На деньги, зарытые в углу избы, едва-едва можно было приобрести кузнечный инструмент, необходимый для выполнения неприхотливых сельских заказов.
Печник, ставивший горн из купленного кирпича, и сапожник, тачавший мехи, совершенно истощили карман цыгана: но зато кузница была почти готова.
К несчастью, прежде чем все было готово, время посева ушло, а у Тумра еще не было ни клещей, ни молота, ни угля. Бедняга стал рассчитывать на починку серпов, кос и плугов. Иногда казалось ему, что все готово, но каждый день доказывал ему, что много еще недостает, и цыган с новою ревностью принимался за работу.
Весна была уже на исходе, когда Тумр, вечером возвратившись в избу, воскликнул:
– Ну, слава Богу, кузница кончена! Надевай фартук и работай!
Вслед за ним вбежал в избу запыхавшийся Янко.
– Ха, ха, ха! Новость! Новость!
– Что с тобой, Янко? Какая новость? – улыбаясь, спросила Мотруна.
– Возвращаюсь из леса, – залепетал Янко, – вижу – шайка цыган… вон тут на лугу, недалеко, будут ночевать.
Тумр вздрогнул всем телом и пробормотал что-то невнятно, Мотруна, инстинктивно испугавшись, заломила руки.
– Зачем же они пришли сюда? – произнесла она. – Зачем?
Сердце несчастной сильно забилось, почуяв невзгоду. Тумр явно был встревожен, но хотел казаться равнодушным.
– Да нам какое дело до того, что цыгане пришли? – произнес он медленно. – Пришли и уйдут.
– Все-таки, Мотруна, посматривай за мужем, до беды недалеко, пожалуй, уведут, – прибавил дурачок.
– Ох, горе, когда мужа придется сторожить!
– Береженого и Бог бережет, – сказал гость. – Но мне домой пора, доброй ночи!
Янко проворно выскользнул из двери.
Тумр и Мотруна сидели одни, не говоря ни слова, мысль их летела к цыганскому шатру. Тумр не мог ни минуты остаться на месте, бледное лицо его пугало жену, которая изредка устремляла на него глаза, исполненные тревожного любопытства. Никогда еще он не казался ей таким страшным: глаза его дико блистали, губы дрожали, на лбу выступили крупные капли пота, грудь тяжело и высоко подымалась, словно хотела разорваться.
Сели ужинать, цыган и ложки не обмакнул, а когда посуда была убрана, он снова начал ходить, молчаливый, мрачный, почти помешанный. Он бежал от порога в противоположный угол избы, но непреодолимая сила опять влекла его туда, казалось, он готов был отворить дверь, но рука судорожно опускалась, и он бросался назад. Глядя на него, можно было подумать, что гладиатор борется с диким зверем – так он боролся с собою.
– Послушай, Мотруна, – сказал он, наконец остановившись посреди избы, – цыгане могут испортить все дело. Я спешил окончить кузницу, надеясь, что в рабочее время народ волей-неволей придет ко мне с работой, а вот как эти бродяги расположатся здесь – всех заманят к себе, а нам пропадать придется.
– Отчего ты так думаешь?
– Те ничего не сделали, а я…
– И что же ты сделаешь? – спросила Мотруна, устремив на него глаза.
– Что? Я не знаю, – нерешительно отвечал Тумр, – пойду к ним, буду просить, чтоб ушли отсюда.
– Ты! Ты к ним! – крикнула Мотруна, вскочив со своего места. – Зачем? Они потащат тебя с собой, они забьют тебя, отравят, околдуют! Нет, нет! Я не пущу тебя… Ты не пойдешь?
Последние слова Мотруна произнесла с таким отчаянием, что Тумр, пораженный болезненным выражением ее лица, принужден был замолчать, но смертная бледность покрыла его щеки, он опустил голову, будто приговоренный к казни.
– Ну, так пропадем, коли ты мне не веришь, – произнес цыган, внешне совершенно спокойный.