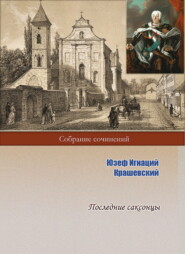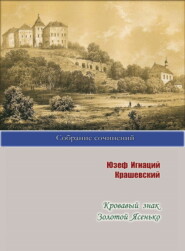По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хата за околицей; Уляна; Остап Бондарчук
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Максим! Ведь я сестра тебе… Что тебе сделал мой муж?.. Чем я провинилась перед тобой!.. За что ты так нас обижаешь!..
– А отца забыла? – грозно закричал Максим. – Не ты ли его убила! Пошла просить на нас во двор! Пущай и теперь паны тебе помогают… Мы тебе не братья!
– Максим, ты не знаешь нашего горя!.. Мы с голодухи помрем… Вы все село взбунтовали на нас… Не хочешь признать меня сестрой, я не навязываюсь, за что ж вы нас гоните?
– Нет, нет! – кричал Максим. – Так вам, поделом… Проваливайте отсюда за вашими, за цыганами. А село и без кузнеца стояло сколько лет и теперь, значит, не надо… Убирайся!
В сердце Мотруны пробудилось чувство, похожее на гнев.
– Мы цыгане! – вскрикнула Мотруна. – А вы-то кто! Вы небось лучше, что сестру родную со двора гоните умирать с голоду, лишь бы на глаза не попадалась!
– Вон пошла! А нет, так затравлю собаками! – крикнул Максим, делая шаг вперед.
– Собаки добрее тебя, – сказала Мотруна, – они по-прежнему признают меня хозяйкой… коли ты не признаешь сестры…
– Ты отказалась от отца, – перебил Максим.
Бросив на брата горделивый взгляд, Мотруна отступила на несколько шагов от забора. Кот, куры, голуби, проснувшийся от шуму дворовый пес, – все шумной толпою последовало за прежней хозяйкой.
Максим скрылся за дверью.
В мгновение Васька соскочил с забора и, ласкаясь к Мотруне, тихо плелся за ней, но видя, что она миновала ворота, остановился, присел, долго посматривал в ту сторону, где скрылась Мотруна, и наконец уснул безмятежным сном.
Куры все еще поглядывали на знакомый передник и провожали его за ворота, но лишь только она перешла границу их поисков и прогулок, ватага остановилась и начала рыться в кучах сору.
Голуби долго летели за нею, временами садясь на груши, колодцы и крыши, словно звали хозяйку назад, но и они воротились к своему гнезду.
Старая собака трогательнее всех прощалась с женою цыгана, она провожала ее за ворота, ворча лизала ее руку и, виляя хвостом, старалась заглянуть ей в глаза. Но, видя безучастие к себе, она остановилась, залаяла и, опустив хвост и потупив голову, медленно побрела к своей конуре.
Дорога к кладбищу пролегала мимо гумна Лепюков. Поравнявшись с ним, Мотруна услышала стук цепа, дверь была полуоткрыта, ничто не мешало ей узнать, кто работает, она заглянула и увидела меньшого брата, который усердно работал возле нескольких снопов.
«Может быть, он милостивее Максима», – подумала Мотруна и тихо вошла в гумно, работник поднял голову и удивился, увидев перед собой сестру.
– Что тебе надо? – произнес он.
Этот вопрос был вызван скорее удивлением, чем гневом.
– К тебе пришла, Филипп. Ходила к Максиму, думала, добрым словом встретит, а он прогнал меня, словно бродягу…
– Максим прогнал, – повторил Филипп, опираясь на цеп. – Что ж я сделаю?
– Скажи хоть доброе слово, Филипп, – простонала несчастная. – Все нас покинули, никто и не посмотрит на нас, словно мы окаянные!..
– Эх, что ж тут делать, – произнес брат, явно смущенный. – Уж когда Максим прогнал, так мне что делать?.. Все село с ним заодно, хотят выжить вас. А мне-то с ним вздорить из-за вас не приходится, он всех поднимет, ни мне, ни бабе моей житья не будет. Уходи, Мотруна, а то как увидят нас тут, беда…
Мотруна плакала, опершись на ворота.
– Ох, горе мое, горе! Что же мне делать, горемычной, коли братья родные гонят со двора?
– Послушалась бы отца, – нерешительно сказал Филипп, – не было бы горя. Сама же виновата: связалась с цыганом, наделала и нам сраму.
– Что сделано, того не воротишь, – произнесла она после минуты молчания. – Не дай Господи детям вашим такой доли, мы с голоду помрем, как зима придет.
– А паны? – спросил брат.
– А где они?..
– Вам дали корову?
– Мы ее продали, нечем было кормиться самим.
Филипп задумался.
– Ступай себе с Богом, мне нечем пособить тебе. Пожалуй, набери, сколько можешь, ржи, да ни слова никому, слышь? Сохрани Боже! Максиму скажу, что копна в стороне стояла, так гуси и воробьи ощипали. Бери, бери, не стыдись, изъян не сделаешь, только беги скорее, неравно Максим увидит…
Слова Филиппа оживили Мотруну, не так дорога ей была эта жертва, как сознание, что есть еще одно сердце, в котором она может найти участие. Она бросилась целовать руки доброго брата.
– Да наградит тебя Господь за твое добро!
Филипп, казалось, также был тронут, но взоры, часто бросаемые на дверь, обличали в нем беспокойство и опасение, он сам принялся сгребать рожь и чуть не силой сыпал в передник сестры.
– Теперь ступай домой, – чуть слышно произнес Филипп, – ступай себе с Богом, пока Максим не встретил тебя здесь… Хоть краденым добром буду помогать, сохрани Господи, если подстережет… и меня съест, и тебе хуже будет. Ступай, ступай, Мотруна.
Все лицо Филиппа выражало смущение и беспокойство, он то сгребал в кучу солому, то поглядывал в ворота, то выпроваживал сестру.
– Максим, – прибавил он наконец, – голова в доме, он знает, что делает, и покойник также знал, что делал. Не след тебе было приставать к цыгану, жили бы вместе и горя б не видала, теперь все пропало…
– Заладили вы одно и то же, – жалобно сказала Мотруна.
Филипп покачал головой.
– Да как же нам переменить, что отец приказывал? Он умер, некому тебя прощать, против его воли кто пойдет?
– Никогда, никогда! – закричала Мотруна, ухватясь руками за голову.
– Да, верно, что никогда, – произнес Филипп, слегка толкая ее. – Уйди же, уйди, – продолжал он, – беда будет, да и мне пора сгребать рожь, вишь, солнце садится.
Молча несчастная женщина бросила последний взгляд на брата, который будто устыдился своей доброты и опустил глаза в землю. Сердце Мотруны сжалось, из гумна она вышла богаче несколькими гарнцами ржи, но безнадежнее, чем прежде.
Вот она с тяжелой грустью, медленными шагами пробирается мимо заборов к плотине, проходит пруд и приближается к кустам, скрывающим ее ведра.
У источника не было живого существа, она торопливо разогнула ветви и в отчаянии всплеснула руками: в кустах не было ведер.
XX
Тумр долго проходил по лесу, ища материала на кузницу. В опустошенном бору трудно было найти дерево, годное на брусья, потому он воротился домой поздно вечером. Остановившись перед входом в избу, он увидел плачущую Мотруну.
Глаза цыгана налились кровью, щеки запылали, в голове его мелькнула мысль, что кто-нибудь обидел жену; бросив свою ношу, встревоженный цыган подошел к ней.