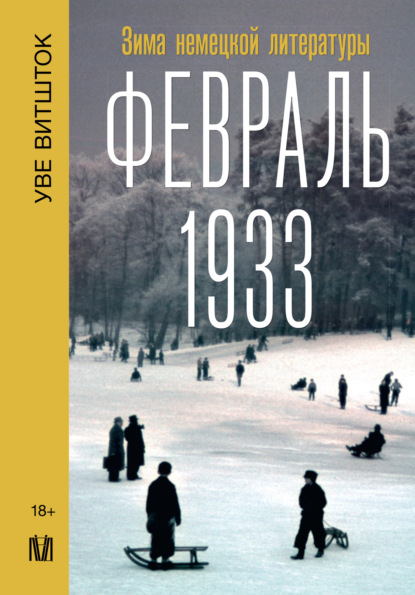По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Февраль 1933. Зима немецкой литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Февраль 1933. Зима немецкой литературы
Уве Витшток
След истории (АСТ)
30 января 1933 года Адольф Гитлер принял присягу в качестве канцлера Германии – и культурный ландшафт Поздней Веймарской республики изменился в мгновение ока. Февраль определил, кому из ведущих писателей, артистов и интеллектуалов придется опасаться за свою жизнь и спасаться бегством, кто будет делать карьеру под протекцией преступников, а кто удалится во внутреннюю эмиграцию, чтобы воочию увидеть, как творится история.
Уве Витшток на основе дневников, писем и архивных материалов воссоздает ощущение исторического слома, охватившего Германию. На превращение слабеющей демократии в царство террора у нацистов ушло не больше месяца. Рассказ о судьбах 33 немецких интеллектуалов – от Томаса Манна и Эльзы Ласкер-Шюлер до Бертольда Брехта – соседствует с хроникой столкновений на улицах, где правые избивают и убивают левых – и наоборот.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Уве Витшток
Февраль 1933. Зима немецкой литературы
Uwe Wittstock
Februar 33. Der Winter der Literatur
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen, 2021
© С. П. Ташкенов, предисловие, 2024
© А. В. Рахманько, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
В память о Герте Витшток
(1930–2020).
В феврале 1933-го ей было три года.
«Безумие, безумие творишь!»
Предисловие научного редактора
В память о Герте Витшток (1930–2020). В феврале 1933-го ей было три года.
Спойлеры – дело скверное. Но без них, к несчастью, не обойтись. Поэтому если читатель не хочет портить себе удовольствие от чтения, то лучше ему воспринять предисловие как послесловие и обратиться к нему в конце. Или же, задумавшись о природе и сути спойлера как такового, понять, что, прочитав одно только название книги, он уже угодил в ловушку главного спойлера: сотни талантливых/гениальных/великих жизней оказались разрушены/сломлены/обречены, когда зимой 1933 года к власти в Германии пришел диктатор.
«Календарный» жанр, в котором написана книга, снискал популярность в последние 10 лет – и неспроста: хроника повседневности иначе высвечивает факты Истории, прожектор частности выхватывает из темноты всеобщее. Автор и литературный критик Уве Витшток сделал методом многих своих текстов не реконструкцию «исторического полотна», но воссоздание ощущения исторического слома через сплетение нитей отдельных жизней. «Февраль 1933» хочется назвать романом, пусть и документальным, пусть автор и заявляет, что в нем «нет героев и подвигов», пусть все персонажи и равны друг перед другом и зачастую повторяют одну и ту же судьбу. Возникает желание назвать книгу также трагедией: не только вольных или невольных жертв тоталитарной системы нового нацистского режима, но и великой культуры в целом, растоптанной за какие-то несколько недель и вынужденной бежать в эмиграцию – одно из немногих слов тогдашнего нацистского жаргона, которые, к счастью, не сохранили «трупный запах Третьей империи»[1 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего реи?ха. Записная книжка филолога. М., 1998. С. 90.].
Скорость, с которой Германия полетела в пропасть «взбесившегося антигуманизма» (Томас Манн), – отдельная драма. Оказавшись у власти после не самой честной политической игры, нацисты в первую же неделю стремились закрутить самые важные гайки: ограничить гражданские права, устранить семиотическое присутствие «иных» в публичной сфере, уничтожить свободу слова. Они прекрасно осознавали власть, которой обладают культура и слово, поэтому первыми, наравне с евреями и коммунистами, пострадали журналисты, писатели и интеллектуалы: уже в начале марта на площадях немецких городов будут гореть первые книги на фоне расползающейся агрессии, резни и демонстративной безнаказанности приверженцев нового режима – гражданской войны в микроформатах. Этой стремительностью перекраивания культурных координат Витшток, среди прочего, объясняет, почему многие медлили до последнего, не решаясь уехать: опасность, в которой очутились люди, оказалась в буквальном смысле «невообразимой». Чем еще, как не отказом психики верить, что «ад восторжествовал» надолго, объяснить отчаянный оптимизм попытки Клауса Манна «отложить пьесу на год»? Или бесконечное ожидание постановки Эльзы Ласкер-Шюлер? Или Георга Кайзера, сперва не воспринявшего ситуацию всерьез? Никто тогда не мог предположить, сколько будет навсегда разлученных – еще не войной, но уже диктатурой. Эрика Манн несколько лет спустя будет также отмечать ту «скорость, с которой в 1933 году были перевернуты все значения и смыслы, когда стало возможным называть черным все, что еще неделю назад было белым»[2 - Манн Э. Школа варваров: воспитание при нацистах. СПб., 2023. С. 36.].
Осмысляя истоки и природу фашизма, философ Георг Лукач отмечал, что его идеология была обращена к тем сторонам жизни, которые сдерживались и подавлялись культурой: «Фашизм заинтересован в том, чтобы отчаяние масс застыло в своей тупости, мраке, безысходности… Фашистская “философия” холит и лелеет это отчаяние»[3 - Лукач Г. Георг Бюхнер – истинный и фальсифицированный на фашистский лад // Антифашизм – наш стиль. М., 1971. С. 220.]. То, что мы привыкли называть понятием высокой культуры, обнаружило здесь свою великую уязвимость, поскольку «так называемая оппозиция одиночек с исторической точки зрения несущественна»[4 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов // Мониторинг общественного мнения. 2004. № 1 (69). С. 92.]. На смену Литературе насаждался ширпотреб с вереницей фёлькиш-авторов[5 - «Фёлькиш» (v?lkisch) – «народнический» (нем.), одна из центральных категорий этнического расизма и национализма. Термин закрепился к концу XIX века как альтернатива сухому и не всеми любимому понятию «национального», поскольку позволял до неприличия широко раздвигать свои смысловые рамки вплоть до метафизических основ культуры и культурного производства.], запоминать фамилии которых даже не стали утруждать себя ни читатель, ни художественная история. Тем не менее нацистский проект по подмене культуры оказался успешен. Во-первых, социальное ядро нацизма формировали вокруг низов среднего класса, нажимая на еще не затянувшуюся рану национального унижения после Версальского мира. Во-вторых, благодатную историческую почву предоставляла и начавшаяся «эра толпы» (Гюстав Лебон): «…толпа руководствуется звериными эмоциями. […] Толпе претит демократия, она тяготеет к авторитаризму; ей нужен вождь»[6 - Замогильный С. И., Вирич М. А. Социальные корни фашизма и основы его символических программ // Вестник Московского университета. Социология и политология. 2005. № 2. С. 26.]. Такой «голодный империализм» толпы низов оказался идеальным плацдармом, на котором Гитлер в кратчайшие сроки реализовал «идею нигилистического цинизма, открыто порвавшего со всеми традициями гуманности»[7 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов. С. 93.]. Искоренять прогресс, демократию и идею о равенстве всех людей помогала расовая теория, которую Гитлер выстраивал по принципу фетиша, стремящегося превратить мир в pax germanica. Лукач описывает этот процесс, с одной стороны, как активную фетишизацию нации, стиравшую «различия между оправданными национальными жизненными интересами народа и агрессивными тенденциями империалистического шовинизма», с другой – как агрессивную фетишизацию культуры, под маской которой скрывался «протест отмирающих элементов против исполненных будущего»[8 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов. С. 95.].
Историк и специалист по культуре Германии периода нацизма Джордж Моссе, проанализировав внушительное количество источников и документов с 1933 по 1939 год, констатировал в них «удивительное единство стиля», частью которого была определенная «динамика»: «настрой на необходимость борьбы со злом»[9 - Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2003. С. 13.]. Но здесь же выделяется и множество четких векторов, по которым нацисты – правда, в рамках одной и той же плоской риторики – перекраивали культуру. Один из них можно обозначить словами Моссе как «фабрикацию героев и мифов»[10 - Там же. С. 128.], а говоря проще – как регресс и героизацию прошлого. Витшток подробно цитирует одну из речей Гитлера, обнажающих риторику умаления отдельного человека перед лицом прошлого и проистекающей из него великой исторической миссии: так, в ходе февральской избирательной кампании он кричал о своей задаче – «восстановить чистоту нашего народа», кричал о своей цели – «пробудить благоговение перед великими традициями нашего народа, вернуть глубокое уважение к достижениям прошлого, смиренное восхищение перед великими деятелями немецкой истории». Гитлеровская риторика вычерчивает четкий треугольник прагматики, расставляющий по своим местам индивида, историю и фюрера: «благоговение/уважение/смирение/восхищение» – «великие традиции / достижения прошлого / великие деятели истории» – «восстановить/пробудить/вернуть». Уже совсем скоро фетиш национального величия будет так же кричать с заглавий псевдофилософских трактатов и псевдонаучных обоснований нацистской культуры: «Арийцы – созидательная сила в истории человечества» (Якоб Граф), «Расовое воплощение, расселение и мировое господство» (Людвиг Фердинанд Клаус), «Адольф Гитлер, спаситель Германии» (Вернер Май) и прочие, и прочие.
Виктор Клемперер, великий исследователь Lingua Tertii Imperii (LTI) – «языка Третьей империи» – называл основным свойством нацистского языка скудость: «LTI беден и убог… Нищета его – принципиальная, словно он дал обет бедности», при этом он «въедался в плоть и кровь масс […] через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно»[11 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего реи?ха. С. 47, 38.]. Хор голосов, неугодных новой власти и несогласных с ней, удивительно един в своей чувствительности к новым ядовитым стилистическим и риторическим регистрам: «Журналы по филологии […] настолько пропитаны жаргоном Третьего рейха, что буквально каждая страница вызывает приступ тошноты»[12 - Там же. С. 86.]; «газеты, журналы, учебники, вся официальная литература стали напыщенными и наполненными грубыми солдафонскими вульгарными выражениями, которые столь типичны для самого фюрера»[13 - Манн Э. Школа варваров. С. 87.]. При этом, как и любое искусственное насаждение культуры, идеологизация (мифологизация вкупе с милитаризацией) не стеснялась искажать не только язык, но и историю. Среди наиболее известных примеров такой героизации – король Пруссии Фридрих Великий, дружбу которого с Вольтером нацисты предпочитали замалчивать или недоговаривать, потому что рационализм Просвещения представлялся делом крайне опасным для выстроенного фантазма фашистских идей. Или немецкие поэты прошлого, намеренно превращаемые «в создателей сырья для нацизма»[14 - Там же. С. 89.]: так, нацистская культура – с легкой подачи Геббельса – оказывалась буквально реинкарнацией культуры эпохи Гёте и Шиллера, визитной карточки Германии. Подобные искажения – капля в море. Но, капля за каплей, мифология стала системной.
Когда Германия, делая «шаг над пропастью», лепила новых фёлькиш-фетиш-героев, фюрер был не один. Чисткой культурной сферы и созданием новояза занималось министерство Йозефа Геббельса, делая расчет на вкусы обывателей и транслируя государственный, низменного стиля язык агрессии, находивший отклик у целевого «электората». Геббельс не только ввел цензуру на издаваемые книги, неустанно пополняя списки запрещенных текстов, но и, что немаловажно, запретил критику литературы и искусства в целом: допуская в репортажах об искусстве лишь описание явлений и событий, он перекрыл кислород публичной интеллектуальной деятельности. В выступлении на ежегодном конгрессе палаты культуры в 1937 году после печально известной выставки «дегенеративного искусства» Геббельс, пожалуй, полнее всего продемонстрировал лицемерие своей риторики и пропагандистское мастерство подмены понятий, называя «извращенное», «безобразное и шокирующее» творчество модернистов «бесплодным продуктом снобистского декадентства», «большим скотством» и «звероподобным состоянием», а официальную «отмену» конкретных художников («этот акт был непосредственно связан с чисткой и координацией нашей культурной жизни») – «окончанием кошмара, довлевшего над нашими душами». Критика искусства, создававшая «тенденции» и «измы», оказывалась в трактовке Геббельса виновной в дегенерации искусства, поскольку она «не оценивала развитие искусства в соответствии со здоровым инстинктом, свойственным народу, а исходила из пустой интеллектуальной абстракции». О качестве искусства теперь следует судить по посещаемости культурных мероприятий новым критиком – простым народом, ведь «люди обладают здоровым чувством восприятия истинных свершений, понимая пустоту разговоров о мнимых достижениях. Вкус этот определяется имеющимся у них предрасположением, однако его необходимо систематически, но корректно направлять. […] Театр и кино, писатели и поэты, художники и архитекторы ощущают на себе плодотворность такого воздействия, о чем ранее не приходилось и мечтать. […] Так что фюрер действовал в национальных интересах, наведя порядок в этом хаосе. Такое искусство следовало закономерно убрать с обозрения, так как хотя и примитивный, но здоровый народный вкус должен соблюдать соответствующую духовную диету. […] Нынешний немецкий художник чувствует себя более свободным, чем прежде, не ощущая никаких препон. Он с радостью служит своему народу и государству, которые относятся к нему с теплотой и пониманием. Национал-социализм нашел у творческой интеллигенции полную поддержку»[15 - Цит. по: Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 189–194.].
Однако, похоже, что более пристальное внимание министерство пропаганды уделяло печатному слову. Издательское дело в Германии традиционно носило личностный характер и соблюдало традиции, заложенные их основателями и носящие их имя: «Ульштайн» (продано в 1934-м и стало центральным органом печати НСДАП[16 - Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Просуществовала с 1920 по 1945 год, в июле 1933-го став единственной законной партией Германии.]), «С. Фишер» (чудом – а во многом благодаря начинающему великому издателю Петеру Зуркампу – избежал закрытия и «ариизации», хотя 123 наименования пришлось удалить из программы), «Ровольт» (половина книг конфискована, сожжена или запрещена; издательство передано в управление подконтрольному государству издательскому дому, закрыто в 1943-м, открыто вновь в 1945-м), «Кипенхойер» (две трети книг запрещены, было вынуждено открыться заново в 1946-м) и многие другие – как и упомянутые на страницах книги, так и оставшиеся за скобками. Но не все издатели и писатели отстаивали свои идеалы. К примеру, актуальный курс государственной идеологии и новые требования к печатному художественному слову транслирует небольшой пропагандистский текст-концентрат издателя и культурполитика Адольфа Шпемана «Об ответственности издателей перед нацией». Стандартная нацистская риторика подмены понятий заставляет понять неизбежность волны писательско-издательской эмиграции: «Великий мастер воспитания людей Адольф Гитлер буквально за несколько лет изменил наши души и внес в книгоиздательскую деятельность чувство огромной ответственности. […] Из безучастного зеркала культурной жизни издатель превратился в носителя культурно-политических целей. Находившийся ранее в услужении у писателей, он теперь стал представителем государства, идейным борцом, сражающимся на переднем крае идеологического фронта. Ныне издателю недостаточно быть мастером своего дела и высококультурной личностью, он должен быть пропагандистом государственных идей и лидерства Адольфа Гитлера […]. Эпоха дегенерации осталась в прошлом, и одним из доказательств этого является понимание того, что книги могут разрушать душу. Теперь уже невозможно, чтобы какой-нибудь литератор стирал свое грязное белье на людях, да еще получал за это деньги». Шпемана не смущает, «что при этом будут разрушены некоторые ценности, […] ведь широко известно, что во время большой уборки дома что-то из посуды может и разбиться». Наконец, в полном соответствии с установками Геббельса он формулирует задачи новой литературы, которая должна научить людей «различать фальшивые ноты, отличать прекрасную народную речь от стилизованного языка, внутренне ощущать настоящую поэзию, не признавая дешевого сочинительства, понимать диалектику и ценные научные достижения, не блуждая в тумане философствования»[17 - Цит. по: Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 196–198.]. Его издательство «Энгельхорн» переживет только 10 послевоенных лет и в итоге растворится в истории.
Важно понимать, что приведенные цитаты и документы «дремучей необразованности и сознательной фальсификации»[18 - Манн. Э. Школа варваров. С. 99.] в стиле «базарного агитатора-крикуна»[19 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. С. 56.] – не единичные случаи: одни и те же репрессивные процессы «обновления» обрушились лавиной и на всю систему воспитания и образования от детсада до университета, и на институт брака, и на все стороны социальной жизни, целиком и полностью подчиненной воле фюрера. Или, говоря словами Эрики Манн: «Все это носится в воздухе, которым с таким трудом дышит каждый житель Германии»[20 - Манн Э. Школа варваров. С. 30.]. В то же время она, уже находясь в эмиграции, не уставала возлагать надежду на отдельного человека перед лицом истории (которому в ней потом будет отказывать Лукач): «Те, кто могут оставаться в рейхе в безопасности, должны там остаться. Особенно если они не сливаются с окружающей унылой безмозглостью. Очень важно, чтобы хоть немного интеллектуалов и разумных людей осталось в стране»[21 - Манн Э. Школа варваров. С. 20.]. За рамками книги Витштока по большей части остались люди, которые не смогли или не захотели уехать и которым пришлось дышать этим трудным, тяжелым воздухом. О таком опыте внутренней эмиграции и «крушения личности в безличностном обществе»[22 - Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 10.] после прихода нацистов к власти будет в конце 1950-х годов вспоминать писатель и драматург Эрих Эбермайер: «И вот ты становишься все более одиноким. Повсюду твои бывшие друзья клянутся в верности Адольфу Гитлеру. А вокруг тех, кто этого не сделал, образуется как бы безвоздушное пространство. Лучшие друзья юности становятся верными приверженцами национал-социализма. […] Они просто уверовали в национал-социализм и говорить с ними на эту тему бесполезно»[23 - Цит. по: Там же. С. 440.]. Однако читатель, находящийся на временной дистанции к персонажам книги Витштока и знающий факты истории, может прочитать в ней и неоспоримый факт оптимизма: всякое Зло конечно.
Сергей Ташкенов
Шаг над пропастью
Месяц, который все решил
Эта книга не о героях и подвигах. Эта книга – о людях, оказавшихся в великой опасности. Многие из них ее не признавали, недооценивали, реагировали слишком медленно – иными словами, ошибались. Конечно, листая сегодня учебники истории, так легко заявить, что эти люди были полными дураками, раз не понимали, что означал для них приход Гитлера к власти в 1933 году. Но тем самым мы проигнорируем историческое мышление. Если тезис, что преступления Гитлера невообразимы, имеет хоть какой-то смысл, то в первую очередь – для его современников. Они не представляли себе – разве что догадывались, – на что способны фюрер и его окружение. По всей вероятности, такая «невообразимость» – характерная черта цивилизационного разлома.
Все разворачивается безумно быстро. Между приходом Гитлера к власти и Чрезвычайным указом о защите народа и государства, отменившим все основные гражданские права, проходит ровно четыре недели и два дня. Одного-единственного месяца хватило, чтобы бесцеремонно превратить правовое государство в тиранию. Бесчисленные убийства начнутся позже. Но уже в феврале 1933-го было решено, кого это коснется: кому придется опасаться за свою жизнь и спасаться бегством, а кто бросится делать карьеру под протекцией преступников. Никогда еще столько писателей и художников не покидало свою страну за столь короткий промежуток времени. Речь пойдет и об этой первой волне беженцев, продлившейся до середины марта.
Исходную политическую ситуацию, позволившую Гитлеру прийти к власти, с разных ракурсов анализировали историки разных мастей. Везде упоминается несколько одних и тех же факторов: поляризовавшее страну растущее влияние экстремистских партий; раздутая пропаганда, которая вбивала клин все глубже и блокировала любые компромиссы; ко всему прочему – нерешительность и слабость политического центра; напоминающий гражданскую войну террор справа и слева; набирающий обороты антисемитизм, бедствия и нищета Великой депрессии, установление националистических режимов в других странах.
Сегодня, к счастью, все по-другому. Но со многими факторами можно провести параллели: растущий раскол общества; непрекращающееся возмущение в Интернете, которое тоже вбивает клин все глубже; беспомощность среднего класса в попытке подавить интерес к экстремизму; растущее число террористических актов как со стороны правых, так иногда и левых; рост антисемитизма; спад мировой экономики в результате пандемии и финансового кризиса; установление националистических режимов в других странах. Так что, возможно, самое время задуматься, что может произойти с демократией в случае фатального ошибочного политического решения.
В феврале 1933 года в опасности оказались не только писатели и художники: для других ситуация была, возможно, еще более угрожающей. Первой жертвой нацистов в ночь после присяги Гитлера на пост рейхсканцлера стал старший сержант прусской полиции Йозеф Зауриц – по мнению газеты «Воссише Цайтунг», верный республиканец и профсоюзный деятель. Речь пойдет и о его убийстве. Но о писателях и художниках в феврале 1933 года сохранилось несравнимо больше личной информации, чем о любой другой группе населения. Их дневники и письма собирались, записи архивировались, мемуары печатались и изучались биографами с амбициями детективов.
Их истории показывают, что происходило с теми, кто пытался отстаивать правовое государство и демократию. И как трудно осознать, что обычная жизнь превращается в борьбу за выживание, а исторический момент требует экзистенциальных личных решений.
Всему, о чем здесь пойдет речь, есть доказательства. Этот рассказ строится на фактах, хотя и допускает некоторые вольности в интерпретации, без которых не описать исторический или биографический контекст. Естественно, в этой мозаике изображено далеко не все, что происходило с писателями и художниками в тот период. Томас Манн, Эльза Ласкер-Шюлер, Бертольт Брехт, Альфред Дёблин, Рикарда Хух, Джордж Грос, Генрих Манн, Маша Калеко, Габриэла Тергит, Готфрид Бенн, Клаус и Эрика Манн, граф Гарри Кесслер, Карл фон Осецкий, Карл Цукмайер и Берлинская академия искусств – это лишь примеры. Общая же картина не уместится ни в одной книге.
Многие, кто поначалу не оставлял надежды, так и не оправились после этого месяца. Слишком многие писатели замолкли и исчезли почти бесследно. Этот переворот предрешил судьбы всех.
Прощальный танец Республики
Суббота, 28 января
Уже несколько недель Берлин мерзнет. Почти сразу после Нового года ударили морозы, и даже самые крупные озера – Ванзе и Мюггельзе – скрылись под пластами льда, а теперь еще и выпал снег. Карл Цукмайер стоит перед зеркалом у себя в мансарде рядом с городским парком в Шёнеберге. Надев фрак, он завязывает белоснежную бабочку под воротником рубашки. Перспектива выйти из дома в вечернем наряде сегодня не особо вдохновляет.
Цукмайера не манят большие вечеринки: как правило, на них ему скучно, и, как только подворачивается удобный момент, он без лишнего шума исчезает с друзьями в очередном кабаке для кучеров. Но Бал прессы – самое важное светское мероприятие зимнего сезона в Берлине, подиум для богатых, влиятельных и красивых. Было бы ошибкой на нем не засветиться – бал пойдет на пользу его репутации востребованной восходящей звезды литературной сцены.
Цукмайер слишком отчетливо помнит невзгоды первых лет своей писательской карьеры, чтобы упускать такие возможности. Остававшись без гроша, он подрабатывал зазывалой и вылавливал на улицах авантюрных гостей Берлина после закрытия заведений, чтобы заманить их в нелегальные злачные места в подворотнях. В некоторых из них ждали полуобнаженные девушки, готовые не брезговать желаниями гостей. Однажды он даже – с парой пакетиков кокаина в кармане – попробовал себя в роли дилера на ночной улице Тауэнцин, но быстро передумал: хотя он и крепкий парень и обычно ничего не боялся, это занятие показалось ему слишком рискованным.
Но после выхода в свет «Веселого виноградника» все это в прошлом. Оставив за плечами четыре крайне патетические, совершенно неудачные и абсолютно провальные драмы, он впервые решился на комедийный сюжет – немецкую версию бурлеска о дочери виноградаря из провинции Рейн-Гессен, родины Цукмайера. Среду виноградарей и виноторговцев он знает вплоть до мелочей. Под его пером все это превратилось в своего рода народную пьесу: каждая нотка вышла верной, каждая шутка – удачной. Поначалу берлинские сцены задирали нос перед такой сельской комедией. Но когда Театр на Шиффбауэрдамм рискнул и устроил премьеру в канун Рождества 1925 года, с виду низкосортная постановка неожиданно обнажила когти: бо?льшая часть аудитории заходилась хохотом, а оставшаяся – гневом на кусачую сатиру, с которой Цукмайер высмеивал националистические бредни упрямых ветеранов войны и кадетов. Их ярость лишь подстегнула известность и успех «Веселого виноградника»: он стал настоящим театральным хитом, возможно, самой популярной постановкой 1920-х годов, и ко всему прочему был экранизирован.
Теперь, семь лет спустя, в репертуаре берлинских театров сразу три пьесы Цукмайера: во «Фрайе Фольксбюне» идет «Шиндерханнес», в Театре Розе[24 - Просуществовавший до 1944 года театр получил имя выкупившего его в 1906-м актера и театрального директора Бернхарда Розе. – Здесь и далее прим. науч. ред.] во Фридрихсхайне показывают сенсационного «Капитана из Кёпеника», а в Театре Шиллера – «Катарину Кни». Для кинокомпании «Тобис» он работает над сказкой, а газета «Берлинер Иллюстрирте» собирается приступить к публикации отрывков из повести «История любви», которая должна почти сразу выйти и в виде книги. Дела у него идут в гору. Далеко не каждый писатель к 40 годам добивается такого успеха, как он.
С террасы виднеются огни Берлина – от радиобашни до купола кафедрального собора. Эта квартира – второй дом Цукмайера, помимо виллы под Зальцбургом, которую он приобрел на гонорары от «Веселого виноградника». Квартира совсем не большая – кабинет, две крохотные спаленки, детская, кухня и ванная, – но он ее любит, особенно за вид на крыши города. Цукмайер купил ее у Отто Фирле, архитектора и художника, создавшего, в частности, летящего журавля – логотип компании «Люфтганза». Тем временем Фирле пользуется большой популярностью у зажиточной буржуазии и интеллигенции Берлина и больше не облагораживает мансарды, а проектирует виллы одну за другой. Через два года Фирле – о чем Цукмайер в этот вечер, конечно же, не догадывается, – построит в Дарсе на Балтийском море загородный дом для министра, получившего доступ к деньгам и власти, по имени Герман Геринг.
По многолетней берлинской традиции Бал прессы проходит в последнюю субботу января. Издательство Цукмайера «Ульштайн» прислало ему почетные приглашения, и жена Алиса без промедления отправилась на поиски нового вечернего платья. В этом году к нему из Майнца на неделю приехала погостить мать, и сегодня она тоже в новом платье: серебристо-сером, с кружевными вставками – подарок сына на Рождество. Это ее первый большой берлинский бал, и ей не скрыть своего волнения от сына.
Но для начала они хотят поужинать в хорошем ресторане. Вечер обещает быть долгим, начинать такую бальную ночь слишком рано не стоит, тем более – на голодный желудок.
Уве Витшток
След истории (АСТ)
30 января 1933 года Адольф Гитлер принял присягу в качестве канцлера Германии – и культурный ландшафт Поздней Веймарской республики изменился в мгновение ока. Февраль определил, кому из ведущих писателей, артистов и интеллектуалов придется опасаться за свою жизнь и спасаться бегством, кто будет делать карьеру под протекцией преступников, а кто удалится во внутреннюю эмиграцию, чтобы воочию увидеть, как творится история.
Уве Витшток на основе дневников, писем и архивных материалов воссоздает ощущение исторического слома, охватившего Германию. На превращение слабеющей демократии в царство террора у нацистов ушло не больше месяца. Рассказ о судьбах 33 немецких интеллектуалов – от Томаса Манна и Эльзы Ласкер-Шюлер до Бертольда Брехта – соседствует с хроникой столкновений на улицах, где правые избивают и убивают левых – и наоборот.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Уве Витшток
Февраль 1933. Зима немецкой литературы
Uwe Wittstock
Februar 33. Der Winter der Literatur
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen, 2021
© С. П. Ташкенов, предисловие, 2024
© А. В. Рахманько, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
В память о Герте Витшток
(1930–2020).
В феврале 1933-го ей было три года.
«Безумие, безумие творишь!»
Предисловие научного редактора
В память о Герте Витшток (1930–2020). В феврале 1933-го ей было три года.
Спойлеры – дело скверное. Но без них, к несчастью, не обойтись. Поэтому если читатель не хочет портить себе удовольствие от чтения, то лучше ему воспринять предисловие как послесловие и обратиться к нему в конце. Или же, задумавшись о природе и сути спойлера как такового, понять, что, прочитав одно только название книги, он уже угодил в ловушку главного спойлера: сотни талантливых/гениальных/великих жизней оказались разрушены/сломлены/обречены, когда зимой 1933 года к власти в Германии пришел диктатор.
«Календарный» жанр, в котором написана книга, снискал популярность в последние 10 лет – и неспроста: хроника повседневности иначе высвечивает факты Истории, прожектор частности выхватывает из темноты всеобщее. Автор и литературный критик Уве Витшток сделал методом многих своих текстов не реконструкцию «исторического полотна», но воссоздание ощущения исторического слома через сплетение нитей отдельных жизней. «Февраль 1933» хочется назвать романом, пусть и документальным, пусть автор и заявляет, что в нем «нет героев и подвигов», пусть все персонажи и равны друг перед другом и зачастую повторяют одну и ту же судьбу. Возникает желание назвать книгу также трагедией: не только вольных или невольных жертв тоталитарной системы нового нацистского режима, но и великой культуры в целом, растоптанной за какие-то несколько недель и вынужденной бежать в эмиграцию – одно из немногих слов тогдашнего нацистского жаргона, которые, к счастью, не сохранили «трупный запах Третьей империи»[1 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего реи?ха. Записная книжка филолога. М., 1998. С. 90.].
Скорость, с которой Германия полетела в пропасть «взбесившегося антигуманизма» (Томас Манн), – отдельная драма. Оказавшись у власти после не самой честной политической игры, нацисты в первую же неделю стремились закрутить самые важные гайки: ограничить гражданские права, устранить семиотическое присутствие «иных» в публичной сфере, уничтожить свободу слова. Они прекрасно осознавали власть, которой обладают культура и слово, поэтому первыми, наравне с евреями и коммунистами, пострадали журналисты, писатели и интеллектуалы: уже в начале марта на площадях немецких городов будут гореть первые книги на фоне расползающейся агрессии, резни и демонстративной безнаказанности приверженцев нового режима – гражданской войны в микроформатах. Этой стремительностью перекраивания культурных координат Витшток, среди прочего, объясняет, почему многие медлили до последнего, не решаясь уехать: опасность, в которой очутились люди, оказалась в буквальном смысле «невообразимой». Чем еще, как не отказом психики верить, что «ад восторжествовал» надолго, объяснить отчаянный оптимизм попытки Клауса Манна «отложить пьесу на год»? Или бесконечное ожидание постановки Эльзы Ласкер-Шюлер? Или Георга Кайзера, сперва не воспринявшего ситуацию всерьез? Никто тогда не мог предположить, сколько будет навсегда разлученных – еще не войной, но уже диктатурой. Эрика Манн несколько лет спустя будет также отмечать ту «скорость, с которой в 1933 году были перевернуты все значения и смыслы, когда стало возможным называть черным все, что еще неделю назад было белым»[2 - Манн Э. Школа варваров: воспитание при нацистах. СПб., 2023. С. 36.].
Осмысляя истоки и природу фашизма, философ Георг Лукач отмечал, что его идеология была обращена к тем сторонам жизни, которые сдерживались и подавлялись культурой: «Фашизм заинтересован в том, чтобы отчаяние масс застыло в своей тупости, мраке, безысходности… Фашистская “философия” холит и лелеет это отчаяние»[3 - Лукач Г. Георг Бюхнер – истинный и фальсифицированный на фашистский лад // Антифашизм – наш стиль. М., 1971. С. 220.]. То, что мы привыкли называть понятием высокой культуры, обнаружило здесь свою великую уязвимость, поскольку «так называемая оппозиция одиночек с исторической точки зрения несущественна»[4 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов // Мониторинг общественного мнения. 2004. № 1 (69). С. 92.]. На смену Литературе насаждался ширпотреб с вереницей фёлькиш-авторов[5 - «Фёлькиш» (v?lkisch) – «народнический» (нем.), одна из центральных категорий этнического расизма и национализма. Термин закрепился к концу XIX века как альтернатива сухому и не всеми любимому понятию «национального», поскольку позволял до неприличия широко раздвигать свои смысловые рамки вплоть до метафизических основ культуры и культурного производства.], запоминать фамилии которых даже не стали утруждать себя ни читатель, ни художественная история. Тем не менее нацистский проект по подмене культуры оказался успешен. Во-первых, социальное ядро нацизма формировали вокруг низов среднего класса, нажимая на еще не затянувшуюся рану национального унижения после Версальского мира. Во-вторых, благодатную историческую почву предоставляла и начавшаяся «эра толпы» (Гюстав Лебон): «…толпа руководствуется звериными эмоциями. […] Толпе претит демократия, она тяготеет к авторитаризму; ей нужен вождь»[6 - Замогильный С. И., Вирич М. А. Социальные корни фашизма и основы его символических программ // Вестник Московского университета. Социология и политология. 2005. № 2. С. 26.]. Такой «голодный империализм» толпы низов оказался идеальным плацдармом, на котором Гитлер в кратчайшие сроки реализовал «идею нигилистического цинизма, открыто порвавшего со всеми традициями гуманности»[7 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов. С. 93.]. Искоренять прогресс, демократию и идею о равенстве всех людей помогала расовая теория, которую Гитлер выстраивал по принципу фетиша, стремящегося превратить мир в pax germanica. Лукач описывает этот процесс, с одной стороны, как активную фетишизацию нации, стиравшую «различия между оправданными национальными жизненными интересами народа и агрессивными тенденциями империалистического шовинизма», с другой – как агрессивную фетишизацию культуры, под маской которой скрывался «протест отмирающих элементов против исполненных будущего»[8 - Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов. С. 95.].
Историк и специалист по культуре Германии периода нацизма Джордж Моссе, проанализировав внушительное количество источников и документов с 1933 по 1939 год, констатировал в них «удивительное единство стиля», частью которого была определенная «динамика»: «настрой на необходимость борьбы со злом»[9 - Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М., 2003. С. 13.]. Но здесь же выделяется и множество четких векторов, по которым нацисты – правда, в рамках одной и той же плоской риторики – перекраивали культуру. Один из них можно обозначить словами Моссе как «фабрикацию героев и мифов»[10 - Там же. С. 128.], а говоря проще – как регресс и героизацию прошлого. Витшток подробно цитирует одну из речей Гитлера, обнажающих риторику умаления отдельного человека перед лицом прошлого и проистекающей из него великой исторической миссии: так, в ходе февральской избирательной кампании он кричал о своей задаче – «восстановить чистоту нашего народа», кричал о своей цели – «пробудить благоговение перед великими традициями нашего народа, вернуть глубокое уважение к достижениям прошлого, смиренное восхищение перед великими деятелями немецкой истории». Гитлеровская риторика вычерчивает четкий треугольник прагматики, расставляющий по своим местам индивида, историю и фюрера: «благоговение/уважение/смирение/восхищение» – «великие традиции / достижения прошлого / великие деятели истории» – «восстановить/пробудить/вернуть». Уже совсем скоро фетиш национального величия будет так же кричать с заглавий псевдофилософских трактатов и псевдонаучных обоснований нацистской культуры: «Арийцы – созидательная сила в истории человечества» (Якоб Граф), «Расовое воплощение, расселение и мировое господство» (Людвиг Фердинанд Клаус), «Адольф Гитлер, спаситель Германии» (Вернер Май) и прочие, и прочие.
Виктор Клемперер, великий исследователь Lingua Tertii Imperii (LTI) – «языка Третьей империи» – называл основным свойством нацистского языка скудость: «LTI беден и убог… Нищета его – принципиальная, словно он дал обет бедности», при этом он «въедался в плоть и кровь масс […] через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно»[11 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего реи?ха. С. 47, 38.]. Хор голосов, неугодных новой власти и несогласных с ней, удивительно един в своей чувствительности к новым ядовитым стилистическим и риторическим регистрам: «Журналы по филологии […] настолько пропитаны жаргоном Третьего рейха, что буквально каждая страница вызывает приступ тошноты»[12 - Там же. С. 86.]; «газеты, журналы, учебники, вся официальная литература стали напыщенными и наполненными грубыми солдафонскими вульгарными выражениями, которые столь типичны для самого фюрера»[13 - Манн Э. Школа варваров. С. 87.]. При этом, как и любое искусственное насаждение культуры, идеологизация (мифологизация вкупе с милитаризацией) не стеснялась искажать не только язык, но и историю. Среди наиболее известных примеров такой героизации – король Пруссии Фридрих Великий, дружбу которого с Вольтером нацисты предпочитали замалчивать или недоговаривать, потому что рационализм Просвещения представлялся делом крайне опасным для выстроенного фантазма фашистских идей. Или немецкие поэты прошлого, намеренно превращаемые «в создателей сырья для нацизма»[14 - Там же. С. 89.]: так, нацистская культура – с легкой подачи Геббельса – оказывалась буквально реинкарнацией культуры эпохи Гёте и Шиллера, визитной карточки Германии. Подобные искажения – капля в море. Но, капля за каплей, мифология стала системной.
Когда Германия, делая «шаг над пропастью», лепила новых фёлькиш-фетиш-героев, фюрер был не один. Чисткой культурной сферы и созданием новояза занималось министерство Йозефа Геббельса, делая расчет на вкусы обывателей и транслируя государственный, низменного стиля язык агрессии, находивший отклик у целевого «электората». Геббельс не только ввел цензуру на издаваемые книги, неустанно пополняя списки запрещенных текстов, но и, что немаловажно, запретил критику литературы и искусства в целом: допуская в репортажах об искусстве лишь описание явлений и событий, он перекрыл кислород публичной интеллектуальной деятельности. В выступлении на ежегодном конгрессе палаты культуры в 1937 году после печально известной выставки «дегенеративного искусства» Геббельс, пожалуй, полнее всего продемонстрировал лицемерие своей риторики и пропагандистское мастерство подмены понятий, называя «извращенное», «безобразное и шокирующее» творчество модернистов «бесплодным продуктом снобистского декадентства», «большим скотством» и «звероподобным состоянием», а официальную «отмену» конкретных художников («этот акт был непосредственно связан с чисткой и координацией нашей культурной жизни») – «окончанием кошмара, довлевшего над нашими душами». Критика искусства, создававшая «тенденции» и «измы», оказывалась в трактовке Геббельса виновной в дегенерации искусства, поскольку она «не оценивала развитие искусства в соответствии со здоровым инстинктом, свойственным народу, а исходила из пустой интеллектуальной абстракции». О качестве искусства теперь следует судить по посещаемости культурных мероприятий новым критиком – простым народом, ведь «люди обладают здоровым чувством восприятия истинных свершений, понимая пустоту разговоров о мнимых достижениях. Вкус этот определяется имеющимся у них предрасположением, однако его необходимо систематически, но корректно направлять. […] Театр и кино, писатели и поэты, художники и архитекторы ощущают на себе плодотворность такого воздействия, о чем ранее не приходилось и мечтать. […] Так что фюрер действовал в национальных интересах, наведя порядок в этом хаосе. Такое искусство следовало закономерно убрать с обозрения, так как хотя и примитивный, но здоровый народный вкус должен соблюдать соответствующую духовную диету. […] Нынешний немецкий художник чувствует себя более свободным, чем прежде, не ощущая никаких препон. Он с радостью служит своему народу и государству, которые относятся к нему с теплотой и пониманием. Национал-социализм нашел у творческой интеллигенции полную поддержку»[15 - Цит. по: Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 189–194.].
Однако, похоже, что более пристальное внимание министерство пропаганды уделяло печатному слову. Издательское дело в Германии традиционно носило личностный характер и соблюдало традиции, заложенные их основателями и носящие их имя: «Ульштайн» (продано в 1934-м и стало центральным органом печати НСДАП[16 - Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Просуществовала с 1920 по 1945 год, в июле 1933-го став единственной законной партией Германии.]), «С. Фишер» (чудом – а во многом благодаря начинающему великому издателю Петеру Зуркампу – избежал закрытия и «ариизации», хотя 123 наименования пришлось удалить из программы), «Ровольт» (половина книг конфискована, сожжена или запрещена; издательство передано в управление подконтрольному государству издательскому дому, закрыто в 1943-м, открыто вновь в 1945-м), «Кипенхойер» (две трети книг запрещены, было вынуждено открыться заново в 1946-м) и многие другие – как и упомянутые на страницах книги, так и оставшиеся за скобками. Но не все издатели и писатели отстаивали свои идеалы. К примеру, актуальный курс государственной идеологии и новые требования к печатному художественному слову транслирует небольшой пропагандистский текст-концентрат издателя и культурполитика Адольфа Шпемана «Об ответственности издателей перед нацией». Стандартная нацистская риторика подмены понятий заставляет понять неизбежность волны писательско-издательской эмиграции: «Великий мастер воспитания людей Адольф Гитлер буквально за несколько лет изменил наши души и внес в книгоиздательскую деятельность чувство огромной ответственности. […] Из безучастного зеркала культурной жизни издатель превратился в носителя культурно-политических целей. Находившийся ранее в услужении у писателей, он теперь стал представителем государства, идейным борцом, сражающимся на переднем крае идеологического фронта. Ныне издателю недостаточно быть мастером своего дела и высококультурной личностью, он должен быть пропагандистом государственных идей и лидерства Адольфа Гитлера […]. Эпоха дегенерации осталась в прошлом, и одним из доказательств этого является понимание того, что книги могут разрушать душу. Теперь уже невозможно, чтобы какой-нибудь литератор стирал свое грязное белье на людях, да еще получал за это деньги». Шпемана не смущает, «что при этом будут разрушены некоторые ценности, […] ведь широко известно, что во время большой уборки дома что-то из посуды может и разбиться». Наконец, в полном соответствии с установками Геббельса он формулирует задачи новой литературы, которая должна научить людей «различать фальшивые ноты, отличать прекрасную народную речь от стилизованного языка, внутренне ощущать настоящую поэзию, не признавая дешевого сочинительства, понимать диалектику и ценные научные достижения, не блуждая в тумане философствования»[17 - Цит. по: Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 196–198.]. Его издательство «Энгельхорн» переживет только 10 послевоенных лет и в итоге растворится в истории.
Важно понимать, что приведенные цитаты и документы «дремучей необразованности и сознательной фальсификации»[18 - Манн. Э. Школа варваров. С. 99.] в стиле «базарного агитатора-крикуна»[19 - Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. С. 56.] – не единичные случаи: одни и те же репрессивные процессы «обновления» обрушились лавиной и на всю систему воспитания и образования от детсада до университета, и на институт брака, и на все стороны социальной жизни, целиком и полностью подчиненной воле фюрера. Или, говоря словами Эрики Манн: «Все это носится в воздухе, которым с таким трудом дышит каждый житель Германии»[20 - Манн Э. Школа варваров. С. 30.]. В то же время она, уже находясь в эмиграции, не уставала возлагать надежду на отдельного человека перед лицом истории (которому в ней потом будет отказывать Лукач): «Те, кто могут оставаться в рейхе в безопасности, должны там остаться. Особенно если они не сливаются с окружающей унылой безмозглостью. Очень важно, чтобы хоть немного интеллектуалов и разумных людей осталось в стране»[21 - Манн Э. Школа варваров. С. 20.]. За рамками книги Витштока по большей части остались люди, которые не смогли или не захотели уехать и которым пришлось дышать этим трудным, тяжелым воздухом. О таком опыте внутренней эмиграции и «крушения личности в безличностном обществе»[22 - Моссе Дж. Нацизм и культура. С. 10.] после прихода нацистов к власти будет в конце 1950-х годов вспоминать писатель и драматург Эрих Эбермайер: «И вот ты становишься все более одиноким. Повсюду твои бывшие друзья клянутся в верности Адольфу Гитлеру. А вокруг тех, кто этого не сделал, образуется как бы безвоздушное пространство. Лучшие друзья юности становятся верными приверженцами национал-социализма. […] Они просто уверовали в национал-социализм и говорить с ними на эту тему бесполезно»[23 - Цит. по: Там же. С. 440.]. Однако читатель, находящийся на временной дистанции к персонажам книги Витштока и знающий факты истории, может прочитать в ней и неоспоримый факт оптимизма: всякое Зло конечно.
Сергей Ташкенов
Шаг над пропастью
Месяц, который все решил
Эта книга не о героях и подвигах. Эта книга – о людях, оказавшихся в великой опасности. Многие из них ее не признавали, недооценивали, реагировали слишком медленно – иными словами, ошибались. Конечно, листая сегодня учебники истории, так легко заявить, что эти люди были полными дураками, раз не понимали, что означал для них приход Гитлера к власти в 1933 году. Но тем самым мы проигнорируем историческое мышление. Если тезис, что преступления Гитлера невообразимы, имеет хоть какой-то смысл, то в первую очередь – для его современников. Они не представляли себе – разве что догадывались, – на что способны фюрер и его окружение. По всей вероятности, такая «невообразимость» – характерная черта цивилизационного разлома.
Все разворачивается безумно быстро. Между приходом Гитлера к власти и Чрезвычайным указом о защите народа и государства, отменившим все основные гражданские права, проходит ровно четыре недели и два дня. Одного-единственного месяца хватило, чтобы бесцеремонно превратить правовое государство в тиранию. Бесчисленные убийства начнутся позже. Но уже в феврале 1933-го было решено, кого это коснется: кому придется опасаться за свою жизнь и спасаться бегством, а кто бросится делать карьеру под протекцией преступников. Никогда еще столько писателей и художников не покидало свою страну за столь короткий промежуток времени. Речь пойдет и об этой первой волне беженцев, продлившейся до середины марта.
Исходную политическую ситуацию, позволившую Гитлеру прийти к власти, с разных ракурсов анализировали историки разных мастей. Везде упоминается несколько одних и тех же факторов: поляризовавшее страну растущее влияние экстремистских партий; раздутая пропаганда, которая вбивала клин все глубже и блокировала любые компромиссы; ко всему прочему – нерешительность и слабость политического центра; напоминающий гражданскую войну террор справа и слева; набирающий обороты антисемитизм, бедствия и нищета Великой депрессии, установление националистических режимов в других странах.
Сегодня, к счастью, все по-другому. Но со многими факторами можно провести параллели: растущий раскол общества; непрекращающееся возмущение в Интернете, которое тоже вбивает клин все глубже; беспомощность среднего класса в попытке подавить интерес к экстремизму; растущее число террористических актов как со стороны правых, так иногда и левых; рост антисемитизма; спад мировой экономики в результате пандемии и финансового кризиса; установление националистических режимов в других странах. Так что, возможно, самое время задуматься, что может произойти с демократией в случае фатального ошибочного политического решения.
В феврале 1933 года в опасности оказались не только писатели и художники: для других ситуация была, возможно, еще более угрожающей. Первой жертвой нацистов в ночь после присяги Гитлера на пост рейхсканцлера стал старший сержант прусской полиции Йозеф Зауриц – по мнению газеты «Воссише Цайтунг», верный республиканец и профсоюзный деятель. Речь пойдет и о его убийстве. Но о писателях и художниках в феврале 1933 года сохранилось несравнимо больше личной информации, чем о любой другой группе населения. Их дневники и письма собирались, записи архивировались, мемуары печатались и изучались биографами с амбициями детективов.
Их истории показывают, что происходило с теми, кто пытался отстаивать правовое государство и демократию. И как трудно осознать, что обычная жизнь превращается в борьбу за выживание, а исторический момент требует экзистенциальных личных решений.
Всему, о чем здесь пойдет речь, есть доказательства. Этот рассказ строится на фактах, хотя и допускает некоторые вольности в интерпретации, без которых не описать исторический или биографический контекст. Естественно, в этой мозаике изображено далеко не все, что происходило с писателями и художниками в тот период. Томас Манн, Эльза Ласкер-Шюлер, Бертольт Брехт, Альфред Дёблин, Рикарда Хух, Джордж Грос, Генрих Манн, Маша Калеко, Габриэла Тергит, Готфрид Бенн, Клаус и Эрика Манн, граф Гарри Кесслер, Карл фон Осецкий, Карл Цукмайер и Берлинская академия искусств – это лишь примеры. Общая же картина не уместится ни в одной книге.
Многие, кто поначалу не оставлял надежды, так и не оправились после этого месяца. Слишком многие писатели замолкли и исчезли почти бесследно. Этот переворот предрешил судьбы всех.
Прощальный танец Республики
Суббота, 28 января
Уже несколько недель Берлин мерзнет. Почти сразу после Нового года ударили морозы, и даже самые крупные озера – Ванзе и Мюггельзе – скрылись под пластами льда, а теперь еще и выпал снег. Карл Цукмайер стоит перед зеркалом у себя в мансарде рядом с городским парком в Шёнеберге. Надев фрак, он завязывает белоснежную бабочку под воротником рубашки. Перспектива выйти из дома в вечернем наряде сегодня не особо вдохновляет.
Цукмайера не манят большие вечеринки: как правило, на них ему скучно, и, как только подворачивается удобный момент, он без лишнего шума исчезает с друзьями в очередном кабаке для кучеров. Но Бал прессы – самое важное светское мероприятие зимнего сезона в Берлине, подиум для богатых, влиятельных и красивых. Было бы ошибкой на нем не засветиться – бал пойдет на пользу его репутации востребованной восходящей звезды литературной сцены.
Цукмайер слишком отчетливо помнит невзгоды первых лет своей писательской карьеры, чтобы упускать такие возможности. Остававшись без гроша, он подрабатывал зазывалой и вылавливал на улицах авантюрных гостей Берлина после закрытия заведений, чтобы заманить их в нелегальные злачные места в подворотнях. В некоторых из них ждали полуобнаженные девушки, готовые не брезговать желаниями гостей. Однажды он даже – с парой пакетиков кокаина в кармане – попробовал себя в роли дилера на ночной улице Тауэнцин, но быстро передумал: хотя он и крепкий парень и обычно ничего не боялся, это занятие показалось ему слишком рискованным.
Но после выхода в свет «Веселого виноградника» все это в прошлом. Оставив за плечами четыре крайне патетические, совершенно неудачные и абсолютно провальные драмы, он впервые решился на комедийный сюжет – немецкую версию бурлеска о дочери виноградаря из провинции Рейн-Гессен, родины Цукмайера. Среду виноградарей и виноторговцев он знает вплоть до мелочей. Под его пером все это превратилось в своего рода народную пьесу: каждая нотка вышла верной, каждая шутка – удачной. Поначалу берлинские сцены задирали нос перед такой сельской комедией. Но когда Театр на Шиффбауэрдамм рискнул и устроил премьеру в канун Рождества 1925 года, с виду низкосортная постановка неожиданно обнажила когти: бо?льшая часть аудитории заходилась хохотом, а оставшаяся – гневом на кусачую сатиру, с которой Цукмайер высмеивал националистические бредни упрямых ветеранов войны и кадетов. Их ярость лишь подстегнула известность и успех «Веселого виноградника»: он стал настоящим театральным хитом, возможно, самой популярной постановкой 1920-х годов, и ко всему прочему был экранизирован.
Теперь, семь лет спустя, в репертуаре берлинских театров сразу три пьесы Цукмайера: во «Фрайе Фольксбюне» идет «Шиндерханнес», в Театре Розе[24 - Просуществовавший до 1944 года театр получил имя выкупившего его в 1906-м актера и театрального директора Бернхарда Розе. – Здесь и далее прим. науч. ред.] во Фридрихсхайне показывают сенсационного «Капитана из Кёпеника», а в Театре Шиллера – «Катарину Кни». Для кинокомпании «Тобис» он работает над сказкой, а газета «Берлинер Иллюстрирте» собирается приступить к публикации отрывков из повести «История любви», которая должна почти сразу выйти и в виде книги. Дела у него идут в гору. Далеко не каждый писатель к 40 годам добивается такого успеха, как он.
С террасы виднеются огни Берлина – от радиобашни до купола кафедрального собора. Эта квартира – второй дом Цукмайера, помимо виллы под Зальцбургом, которую он приобрел на гонорары от «Веселого виноградника». Квартира совсем не большая – кабинет, две крохотные спаленки, детская, кухня и ванная, – но он ее любит, особенно за вид на крыши города. Цукмайер купил ее у Отто Фирле, архитектора и художника, создавшего, в частности, летящего журавля – логотип компании «Люфтганза». Тем временем Фирле пользуется большой популярностью у зажиточной буржуазии и интеллигенции Берлина и больше не облагораживает мансарды, а проектирует виллы одну за другой. Через два года Фирле – о чем Цукмайер в этот вечер, конечно же, не догадывается, – построит в Дарсе на Балтийском море загородный дом для министра, получившего доступ к деньгам и власти, по имени Герман Геринг.
По многолетней берлинской традиции Бал прессы проходит в последнюю субботу января. Издательство Цукмайера «Ульштайн» прислало ему почетные приглашения, и жена Алиса без промедления отправилась на поиски нового вечернего платья. В этом году к нему из Майнца на неделю приехала погостить мать, и сегодня она тоже в новом платье: серебристо-сером, с кружевными вставками – подарок сына на Рождество. Это ее первый большой берлинский бал, и ей не скрыть своего волнения от сына.
Но для начала они хотят поужинать в хорошем ресторане. Вечер обещает быть долгим, начинать такую бальную ночь слишком рано не стоит, тем более – на голодный желудок.