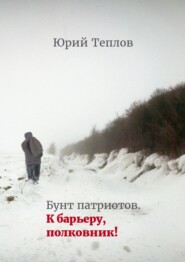По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Прииде окоянный сотона», или ОКО за ОКО. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Прииде окоянный сотона», или ОКО за ОКО. Роман
Юрий Теплов
«И поиде Господь Бог очи имати от солнца, и оставил Адама единого, лежаща на земле. Прииде же окоянный сотона ко Адаму и измаза его калом и тиною и возгрями». (Из апокрифа о сотворении Богом Адама) Сотона – это нечисть, что вольготно гуляет по земле. Героям романа пришлось столкнуться с ней не единожды, и не всегда исход разрешался в их пользу. А иногда и трагически. В жизни так и происходит.
«Прииде окоянный сотона», или ОКО за ОКО
Роман
Юрий Теплов
© Юрий Теплов, 2018
ISBN 978-5-4485-0231-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ
Иван Сверяба и поп-расстрига
1
Дверь лязгнула, как выстрелила, оставив Ивана в провонявшей потом и мочой камере. Запах мочи исходил от стоявшего в углу бака. «Парашу будешь нюхать!» – вспомнил он угрозу усатого милиционера.
С потолка желто светила лампочка, забранная в сетчатый металлический намордник. Левая стена гляделась серой и голой. Вверху синело низкое, словно бойница, оконце, тоже оплетенное металлическими прутьями. Справа были двухъярусные нары, на которых лежали, сидели, курили уголовнички и разглядывали его, застывшего у двери в мятом костюме и в мерлушковой шапке.
– Арбуз! – услышал Иван чей-то сиплый бас сверху.
Со второго яруса скатился парень, низенький, кругленький, с серой челкой. Приблизился к Ивану, обошел вокруг, несильно, но нежданно толкнул его в спину, отчего он очутился посреди камеры.
– Штымп с брехаловки, – доложил Арбуз.
Слова были знакомы Ивану! Штымп – неук в воровских делах, брехаловка – базар. Только успел это сообразить, как оказался на цементном полу, а его шапка – на голове обидчика.
Иван вскочил на ноги, не видя больше ни нар, ни любопытствующих лиц – только его, круглого и щекастого. Первый его удар пришелся как раз в левую скулу. Шапка свалилась с головы Арбуза, а сам он отлетел к параше. Иван достал его и там. Молотил кулаками по чему попадя. Тот падал, но опять кидался на Ивана. Коротковаты были руки у Арбуза, впустую махал. Заслонившись левым локтем, полез было в карман штанов, но Иван, весь в красном тумане, сбил его с ног.
– Папа! – завопил Арбуз.
Кто-то навалился на Ивана сзади, но он, то ли стряхнул Арбузову подмогу, то ли помощники сами захотели досмотреть спектакль… Сцапал за волосы обидчика и возил его мордой по щербатому цементу. И тут на него посыпалось – в бок, в голову, в спину, уложили рядом с Арбузом. Придавленный чьими-то руками, он успел подгрести под себя свою новую шапку. Голова его оказалась напротив Арбузовой, даже глазами на секунду столкнулись: и Иван успел подсмотреть в них растерянность.
Потом его отпустили. Иван настороженно поднялся, держа в руках шапку. Первое, что увидал – овчинные чувяки на чьих-то волосатых ногах, свесившихся с верхних нар. Поднял глаза повыше. На втором этаже сидел грузный мужик в распахнутом бухарском халате, с головой яйцом и глазами, похожими на белые кальсонные пуговицы.
Мужик поманил Ивана. Он сдвинулся в его сторону. Убрал шапку за спину. И встал в ожидании приговора.
– Кто будешь?
– Иван Сверяба.
– Кликуха – Сверяба?
– Не, фамилия.
– Шамать хочешь?
Иван не ел целый день, но внятно произнес в ответ:
– Не хочу.
– Подай крышу!
Иван не понял.
– Шапку подай папе Каряге! – выкрикнул Арбуз.
Если бы у Ивана вознамерились отнять шапку, он бы снова кинулся в драку. А тут протянул ее, ровно бы так и надо, будто на сохранение отдал. Откуда в руке Каряги появился сухарь, Иван не заметил.
– На! – сказал тот и резко кинул сухарь прямо в лицо.
Иван изловчился поймать его. Этим вроде бы даже вызвал одобрительную усмешку.
– Писануть, папа? – Арбуз уже поднялся с пола, стоял в метре от Ивана.
Толкучка обучила Ивана многому. Он знал, что такое писануть – чиркнуть лезвием. Отодвинулся к стене, прижался к ней спиной, заозирался.
– Что красноперых не кличешь? – незло спросил Каряга.
Иван затравленно и с ненавистью уставился в его белоглазый лик. Тот убрал ноги на нары, покряхтел, располагаясь в глубине. Сказал:
– Господи, спаси и помилуй некрещеного! – Высунулся наружу: – Его ложе под Афишей. – И улегся с миром…
Место Ивану досталось у самой двери, внизу. Он долго не мог уснуть, прислушивался к шорохам и храпу, не надеясь, что его оставили в покое. Так и блазнилось, что подкрадывается Арбуз с лезвием. Иван напрягался; приподняв голову, шарил глазами по камере, но все было тихо. Потом он провалился в неспокойный сон. А очнулся от влаги. Брызгало сверху, левый бок подсырел.
Он сполз с нар и никак не мог врубиться со сна, что бы это значило. Лампочка горела все так же желто, и камера казалась загробным приютом для грешников.
– Ссытся Афиша, – услышал Иван сиплый голос. – Открытым держит притвор.
Каряга, как и вечером, сидел на верхних нарах, свесив ноги. Иван не понял сперва, а уразумев смысл, брезгливо глянул на своего недвижимого верхнего соседа. Снял пиджак, расстелил в сухом уголке. Сел на единственный, намертво прикрученный к стене табурет. Чувствовал, что Каряга неотрывно глядит на него, отчего хотелось поерзать. Казалось, тот вот-вот учинит Ивану допрос или подымет уголовничков, чтобы попрессовать строптивого первоходка. Но пахан молчал. Затем подтянул свои волосатые ноги в овчинных чувяках и, кряхтя, стал укладываться.
2
Сколько помнил себя Иван, они всегда жили вдвоем с матерью. Только фамилия у него тогда была не Сверяба, а Панихидин. В войну они жили в деревне. Мать работала учительницей в единственной на четыре деревни начальной школе. Колхоз выделил ей пять соток на склоне лесистого оврага – под картошку. С тем огородом и связаны были у Ивана первые, засевшие в память впечатления.
С самого ранья весь воскресный день мать копала картошку, ссыпала ее в рогожные кули. И он телепался среди кулей и картофельной ботвы. После полудня развели костерок; и вот та, испеченная в золе, посыпанная крупной солью, картошка и еще прибереженный матерью хлебный ломоть – под горько-сладкий дым костра, перебивший запахи ближнего леса, сена, уложенного в копны, и всего уходящего лета – все это осталось в памяти, как кусочек счастья.
После богатой трапезы у костерка мать сказала:
– Ты, Ванятка, уже большой, придется тебе покараулить картошку. Мне еще три двора подписать на заем надо.
Мать ушла по слезному заемному делу. Сначала Ваньке даже весело было от одиночного простора, когда и жуки, и бабочки, и трава, и затухающий костерок – все принадлежало ему. Заигравшись, он незаметно для себя заснул на пустых кулях. А когда от зябкости проснулся, уже смеркалось, и лес придвинулся вплотную.
Юрий Теплов
«И поиде Господь Бог очи имати от солнца, и оставил Адама единого, лежаща на земле. Прииде же окоянный сотона ко Адаму и измаза его калом и тиною и возгрями». (Из апокрифа о сотворении Богом Адама) Сотона – это нечисть, что вольготно гуляет по земле. Героям романа пришлось столкнуться с ней не единожды, и не всегда исход разрешался в их пользу. А иногда и трагически. В жизни так и происходит.
«Прииде окоянный сотона», или ОКО за ОКО
Роман
Юрий Теплов
© Юрий Теплов, 2018
ISBN 978-5-4485-0231-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ
Иван Сверяба и поп-расстрига
1
Дверь лязгнула, как выстрелила, оставив Ивана в провонявшей потом и мочой камере. Запах мочи исходил от стоявшего в углу бака. «Парашу будешь нюхать!» – вспомнил он угрозу усатого милиционера.
С потолка желто светила лампочка, забранная в сетчатый металлический намордник. Левая стена гляделась серой и голой. Вверху синело низкое, словно бойница, оконце, тоже оплетенное металлическими прутьями. Справа были двухъярусные нары, на которых лежали, сидели, курили уголовнички и разглядывали его, застывшего у двери в мятом костюме и в мерлушковой шапке.
– Арбуз! – услышал Иван чей-то сиплый бас сверху.
Со второго яруса скатился парень, низенький, кругленький, с серой челкой. Приблизился к Ивану, обошел вокруг, несильно, но нежданно толкнул его в спину, отчего он очутился посреди камеры.
– Штымп с брехаловки, – доложил Арбуз.
Слова были знакомы Ивану! Штымп – неук в воровских делах, брехаловка – базар. Только успел это сообразить, как оказался на цементном полу, а его шапка – на голове обидчика.
Иван вскочил на ноги, не видя больше ни нар, ни любопытствующих лиц – только его, круглого и щекастого. Первый его удар пришелся как раз в левую скулу. Шапка свалилась с головы Арбуза, а сам он отлетел к параше. Иван достал его и там. Молотил кулаками по чему попадя. Тот падал, но опять кидался на Ивана. Коротковаты были руки у Арбуза, впустую махал. Заслонившись левым локтем, полез было в карман штанов, но Иван, весь в красном тумане, сбил его с ног.
– Папа! – завопил Арбуз.
Кто-то навалился на Ивана сзади, но он, то ли стряхнул Арбузову подмогу, то ли помощники сами захотели досмотреть спектакль… Сцапал за волосы обидчика и возил его мордой по щербатому цементу. И тут на него посыпалось – в бок, в голову, в спину, уложили рядом с Арбузом. Придавленный чьими-то руками, он успел подгрести под себя свою новую шапку. Голова его оказалась напротив Арбузовой, даже глазами на секунду столкнулись: и Иван успел подсмотреть в них растерянность.
Потом его отпустили. Иван настороженно поднялся, держа в руках шапку. Первое, что увидал – овчинные чувяки на чьих-то волосатых ногах, свесившихся с верхних нар. Поднял глаза повыше. На втором этаже сидел грузный мужик в распахнутом бухарском халате, с головой яйцом и глазами, похожими на белые кальсонные пуговицы.
Мужик поманил Ивана. Он сдвинулся в его сторону. Убрал шапку за спину. И встал в ожидании приговора.
– Кто будешь?
– Иван Сверяба.
– Кликуха – Сверяба?
– Не, фамилия.
– Шамать хочешь?
Иван не ел целый день, но внятно произнес в ответ:
– Не хочу.
– Подай крышу!
Иван не понял.
– Шапку подай папе Каряге! – выкрикнул Арбуз.
Если бы у Ивана вознамерились отнять шапку, он бы снова кинулся в драку. А тут протянул ее, ровно бы так и надо, будто на сохранение отдал. Откуда в руке Каряги появился сухарь, Иван не заметил.
– На! – сказал тот и резко кинул сухарь прямо в лицо.
Иван изловчился поймать его. Этим вроде бы даже вызвал одобрительную усмешку.
– Писануть, папа? – Арбуз уже поднялся с пола, стоял в метре от Ивана.
Толкучка обучила Ивана многому. Он знал, что такое писануть – чиркнуть лезвием. Отодвинулся к стене, прижался к ней спиной, заозирался.
– Что красноперых не кличешь? – незло спросил Каряга.
Иван затравленно и с ненавистью уставился в его белоглазый лик. Тот убрал ноги на нары, покряхтел, располагаясь в глубине. Сказал:
– Господи, спаси и помилуй некрещеного! – Высунулся наружу: – Его ложе под Афишей. – И улегся с миром…
Место Ивану досталось у самой двери, внизу. Он долго не мог уснуть, прислушивался к шорохам и храпу, не надеясь, что его оставили в покое. Так и блазнилось, что подкрадывается Арбуз с лезвием. Иван напрягался; приподняв голову, шарил глазами по камере, но все было тихо. Потом он провалился в неспокойный сон. А очнулся от влаги. Брызгало сверху, левый бок подсырел.
Он сполз с нар и никак не мог врубиться со сна, что бы это значило. Лампочка горела все так же желто, и камера казалась загробным приютом для грешников.
– Ссытся Афиша, – услышал Иван сиплый голос. – Открытым держит притвор.
Каряга, как и вечером, сидел на верхних нарах, свесив ноги. Иван не понял сперва, а уразумев смысл, брезгливо глянул на своего недвижимого верхнего соседа. Снял пиджак, расстелил в сухом уголке. Сел на единственный, намертво прикрученный к стене табурет. Чувствовал, что Каряга неотрывно глядит на него, отчего хотелось поерзать. Казалось, тот вот-вот учинит Ивану допрос или подымет уголовничков, чтобы попрессовать строптивого первоходка. Но пахан молчал. Затем подтянул свои волосатые ноги в овчинных чувяках и, кряхтя, стал укладываться.
2
Сколько помнил себя Иван, они всегда жили вдвоем с матерью. Только фамилия у него тогда была не Сверяба, а Панихидин. В войну они жили в деревне. Мать работала учительницей в единственной на четыре деревни начальной школе. Колхоз выделил ей пять соток на склоне лесистого оврага – под картошку. С тем огородом и связаны были у Ивана первые, засевшие в память впечатления.
С самого ранья весь воскресный день мать копала картошку, ссыпала ее в рогожные кули. И он телепался среди кулей и картофельной ботвы. После полудня развели костерок; и вот та, испеченная в золе, посыпанная крупной солью, картошка и еще прибереженный матерью хлебный ломоть – под горько-сладкий дым костра, перебивший запахи ближнего леса, сена, уложенного в копны, и всего уходящего лета – все это осталось в памяти, как кусочек счастья.
После богатой трапезы у костерка мать сказала:
– Ты, Ванятка, уже большой, придется тебе покараулить картошку. Мне еще три двора подписать на заем надо.
Мать ушла по слезному заемному делу. Сначала Ваньке даже весело было от одиночного простора, когда и жуки, и бабочки, и трава, и затухающий костерок – все принадлежало ему. Заигравшись, он незаметно для себя заснул на пустых кулях. А когда от зябкости проснулся, уже смеркалось, и лес придвинулся вплотную.