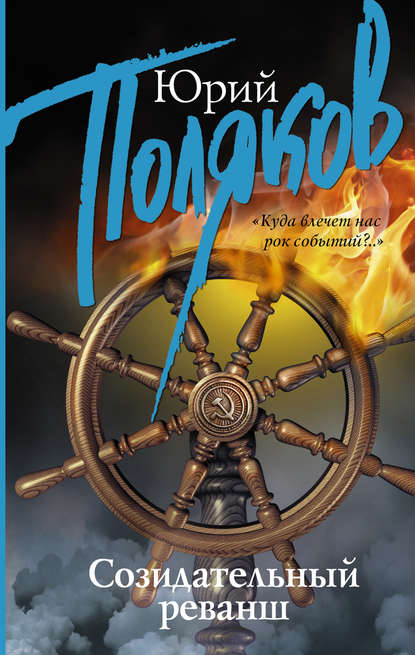По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Созидательный реванш
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, теперь-то парторганизацию можно со счетов сбросить…
– Не скажите! Ей на смену пришла диктатура идейно-художественной группы, к которой ты принадлежишь. И с помощью нынешних литературных премий писателя держат за кадык покруче, чем его держали отдел культуры ЦК партии и Пятое управление КГБ, вместе взятые. Потому что большинство писателей сейчас работают за премии. Премий много, есть большие, по пятьдесят, сто тысяч баксов. И дают их не за художественный уровень, а за верность своей партийно-художественной группе.
– А много таких групп?
– Основные как были, так и остались: либералы-западники и патриоты-ортодоксы. Но есть масса градаций.
– А вы к кому примкнули?
– Ни к кому. Я все эти годы существовал абсолютно автономно. Такое возможно, если ты успешный писатель. У меня выходят книги огромным по нашим временам тиражом. Скажем, за год продано почти сто тридцать тысяч «Грибного царя».
Об институте брака
– Вас послушаешь – что только семье не угрожает! И деньги, и возраст, и усталость друг от друга…
– И еще – сексуальная раскрепощенность общества. Как-то мы сидели в одной компании, и одна милая дама говорит: «Я недавно за границей купила в секс-шопе замечательный вибратор, он такой маленький, как голубиное яйцо с ворсинками, несколько режимов. Просто улетаешь!» Я подумал: боже мой, десять лет назад все провалились бы под стол. А теперь спокойно, по-деловому стали спрашивать: а он на батарейках? А ее муж сидит и благосклонно кивает… Проблема сексуальной удовлетворенности тоже стала полноправным участником брачной драмы. Есть хорошая поговорка: не дотерпеть – пропасть и перетерпеть – пропасть. Так вот, если сексуальное счастье в браке совсем не имеет значения, это разрушает брак. Но когда этот момент ставится во главу угла, он тоже разрушает. Здесь важна верная пропорция.
– Вы считаете, сам институт брака пошатнулся?
– Да, он переживает кризис. Возможно, это связано с постепенной утратой мужчиной его лидирующего положения в обществе, и с возвращением если не в матриархат, то к установлению равновесия между патриархатом и матриархатом. Никто не знает, какие мутации происходят с хомо сапиенс.
– А вот на западе опять пропагандируют культ семьи…
– Там у них гораздо более поздние браки: люди идут на это не под влиянием эмоций, а как на достаточно хладнокровную сделку. Кроме того, там суровые законы, и при разводе столько приходится платить… Хотя и за границей все равно стоит проблема принципиально одинокой жизни. Большое количество женщин сегодня не видят в браке необходимости. Зачем? Они рожают вне брака двух детей, пособия на этих детей хватает, чтобы жить. Мы вступили в эпоху кризиса моногамии…
– Ну, разговоры об этом возникают не в первый раз, а брак пока держится…
– Да, брак уже пережил несколько кризисов. И может в очередной раз из него выйти. В какой это форме произойдет, я не знаю. Но меня не случайно в последние годы, о чем бы я ни писал, заносит в тему кризиса семьи. Писатель – невольник эпохи, карандаш в ее руках. Значит, здесь действительно что-то происходит…
– А вы сами прошли через кризис семьи?
– Конечно. Я женат давно уже, больше тридцати лет.
– Вы уже вышли из кризиса?
– Я думаю, что я в нем еще нахожусь… Это тяжело по-человечески, но полезно для писателя…
Беседу вела Наталья БАРАБАШ
«Комсомольская правда», 12 октября 2006 г.
«Нынешнее поколение литераторов думает, что оно упало с неба…»
Интернет-конференция в СМИ.ру, 26 ноября 2006 г.
Эдуард, Воронеж:
– Не кажется ли вам, что тот ритуальный спектакль, что устроили вокруг действительно злодейского убийства Политковской оппозиционные и западные СМИ, а также западные политики, может привести к совершенно чудовищному «смертельному» результату – убийство человека станет удобным рычагом поворота международной политики? А резкая международная реакция будет порождать новые убийства. То есть идет грязная шахматная игра: пешек будут коварно приносить в жертву – вновь и вновь. Такой будет метод международной политтехнологии при участии дешевых киллеров.
– Я никогда не был, что называется, поклонником Анны Политковской, хотя признавал ее энергию, профессионализм. Но получается поразительная вещь – достоянием международной общественности становятся трагедии, происходящие только с журналистами, скажем так, либерального пула, явно придерживающимися прозападных взглядов. Хотя большие неприятности случаются и с журналистами, допустим, государственно-патриотического толка. Вот этот двойной стандарт меня огорчает, потому что, как пелось в советской песне, «каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог», и меня одинаково волнует судьба журналистов и либерального, и патриотического лагеря. Поэтому, глубоко сочувствуя судьбе Анны Политковской, все-таки вот такой перекос я не могу не отметить. И еще мне кажется, ее гибель связана не с ее взглядами, а с той странно-бурной деятельностью, которую она развила в годы чеченской войны… Да, смерть Политковской использовалась, как выражается уважаемый Эдуард, в качестве «метода международной политтехнологии». Широко использовалась. Если мы вспомним, и президенту Путину первый вопрос во время последней «Прямой линии» задали по поводу смерти Политковской. Так что, к сожалению, надо признать, что ее трагическая гибель, западными антироссийски настроенными силами была использована во вред России.
Максим, Москва:
– Как вы думаете, имеет ли право называться НАСТОЯЩИМ ЖУРНАЛИСТОМ человек, позволяющий себе устраивать то, что устроила не так давно Евгения Марковна Альбац и ее коллеги из «Новой газеты» в прямом эфире «Эха Москвы»? Я имею ввиду истеричную травлю (трое на одного!) приглашенной в программу журналистки Анны Арутюнян за то, что та несколькими днями ранее написала статью об Анне Политковской, в которой достаточно мягко позволила себе усомниться в журналистских заслугах последней. На ваш взгляд, имеют ли такие люди право выступать от имени всего журналистского сообщества (а именно это они сейчас и делают)? Не слишком ли много они на себя берут?
– К сожалению, у нас есть тип журналистов, которые воспринимают свободу слова односторонне, – они считают, что право высказывать свое мнение есть только у них, а всем остальным они в этом праве отказывают. Это болезнь нашей либеральной журналистики. Точно такая же история на «Эхе Москвы» была с Матвеем Ганапольским, который чуть ли не матом покрыл (мы об этом писали в «Литературной газете») человека, позвонившего во время прямого эфира и высказавшего соображения, Ганапольского не устраивающие. Звонивший был обозван самыми чудовищными словами. Конечно, такие вещи ничего общего с журналистской этикой не имеют. Сам хорошо помню, как на том же «Эхе Москвы» я оказался в одном эфире с Ириной Хакамадой и Сергеем Доренко. Последний, если вы помните, в свое время вел на Первом канале передачу, в которой активно гнобил Лужкова. Так вот, все было хорошо до тех пор, пока я деликатно не напомнил Хакамаде о ее рекомендации шахтерам собирать грибы и ягоды. После этого вместо интеллигентной женщины в эфире обнаружилась фурия, поддержанная телевизионным киллером Доренко. В результате нормальный обмен мнениями людей, по-разному смотрящих на политическую ситуацию, превратился в самый настоящий «бой без правил». Хотя, справедливости ради хочу заметить, что есть на «Эхе Москвы» и высокопрофессиональные сотрудники. Например, Майя Пешкова или Ксения Ларина, с которыми я всегда с удовольствием беседую в эфире.
Что же касается права таких людей, как Альбац, выступать от лица всего журналистского сообщества, то я не думаю, что у них оно есть. Навешивание всяческих ярлыков является характерной особенностью нашей либеральной журналистики. Консерваторы, к коим я себя смею относить, гораздо терпимее. И я бы не стал говорить, что они слишком много на себя берут. Просто они, как сейчас модно говорить, пытаются позиционировать себя как российскую интеллигенцию. Все остальные, в их представлении, к ней – к интеллигенции – никакого отношения иметь не могут в принципе. На самом же деле надо понимать, что российская интеллигенция – это гораздо более сложный организм, где есть и либеральное, и почвенническое, и центристское, и монархическое, и консервативное направления. Причем, чем дальше от Москвы, тем концентрация либералов среди интеллигенции меньше. «Литературная газета» в свое время с этим столкнулась. Как только в ней в девяносто первом году возобладала либеральная моно-идеология, газета тут же потеряла всех своих региональных читателей, потому что им стало неинтересно. Но сколько я своим друзьям-писателям и журналистам-либералам об этом ни говорил, все без толку.
Светлана, Москва:
– Сейчас многие говорят о том, что в России больше нет реальной оппозиции власти. Скажите, может ли Общественная палата, которую вы представляете, в какой-то мере заполнить опустевшую нишу?
– Мне очень приятно, что почему-то меня в последнее время часто именуют членом Общественной палаты. Видимо, общественность хотела бы меня там видеть, я так это понимаю. Но дело в том, что я не член Общественной палаты, я член двух президентских советов – по правам человека и по культуре, что тоже, считаю, достаточно серьезно. Что касается оппозиции власти. В России журналистика и литература очень часто выполняли функции отсутствующей политической оппозиции или выражали настроения действительно оппозиционной части политического класса, который в силу сложившихся обстоятельств не мог себя так позиционировать. Проще говоря, борьба в двадцатых-тридцатых годах у коммунистов, несмотря на монополию политической власти, все равно шла очень жесткая. И была своя оппозиция, что оборачивалось различными внутрипартийными скандалами и интригами. Большинство писателей и журналистов пострадали впоследствии не за свои литературные грехи, а именно за то, что они были активными участниками и выразителями той или иной политической группы. Например, абсолютно антикоммунистически настроенный и даже имевший в своем послужном списке службу в Белой армии Михаил Булгаков умер своей смертью, а пламенный революционер, работавший активно на органы НКВД, Михаил Кольцов был расстрелян. Ну и так далее, примеров очень много.
Сейчас у нас, я считаю, все-таки постепенно складываются условия формирования и структурирования политической оппозиции. Твердящие о том, что у нас нет политической оппозиции, видимо, вспоминают расстрел Белого дома. Но тогда все претензии не к Путину, а к Ельцину. А нужна ли нам политическая ситуация, следствием которой могут стать такие эксцессы? Я думаю, что не нужна. И я очень надеюсь, кстати говоря, что сейчас вокруг Партии жизни, которая слилась с пенсионерами и т. д., сформируется партия социалистической ориентации. Говорят, вот, мол, у американцев, демократия. Но надо понимать, что у нас совсем другая политическая история. Ведь не рвут на себе волосы американцы оттого, что они только в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году отменили рабство. Французы же не комплексуют из-за того, что они дали избирательные права женщинам только в середине двадцатого века. Они же не объявляют все предшествовавшие этому годы каким-то мрачным средневековьем! У каждого своя политическая и экономическая история. Уверен, страна развивается нормально, причем именно в путинский период. К примеру, во времена Ельцина я со своими политическими взглядами никогда бы не стал главным редактором «Литературной газеты». И никакой вообще газеты. Почему? Потому что как раз тогда, при Ельцине, оппозицию очень здорово прижимали. А сейчас, я считаю, у нас оппозиция более-менее живет, и дай ей бог.
Людмила, Москва:
– Как вы относитесь к политике в настоящий момент и в какой партии вы состоите или хотели бы состоять?
– Уважаемая Людмила, вам я сразу хочу сказать, что в России писатель не может быть аполитичным, у нас так сложилось. Хотя есть литераторы, декларирующие презрение к политике – Акунин, Улицкая… Но это маска. Просто само по себе участие в политическом процессе бывает разное. Это может быть и известное коллективное письмо «раздавите гадину», с которым наши либеральные интеллигенты, вроде Чудаковой, обратились к Ельцину, и он пролил кровь по просьбам интеллектуалов. Но и публицистика – тоже политика. Вот я, например, много пишу статей. Они у меня вышли даже отдельной книжкой под названием «Порнократия». Так что я абсолютно нормально отношусь к политической деятельности. А все разговоры о том, что «я вне политики», смешны. Я знаю писателей, которые сначала заявляют «я вне политики», а потом отправляются за счет агентства по культуре в какую-нибудь загранкомандировку, и первое, что они делают там – начинают нести Россию именно за политику. Какой же это аполитизм? Нет, это тоже политика, но только причудливая.
А состою я в «Единой России». Вступил несколько лет назад, увидев в ней проект «партии российской государственности». Меня в ту пору очень беспокоил именно этот вопрос: в одной из своих статей я назвал такое состояние общества «государственной недостаточностью». По аналогии с сердечной недостаточностью. Не могу сказать, что я работаю в «Единой России» активно. Да и сама партия, на мой взгляд, неверно относится к состоящим в ней творческим работникам. Как-то она не очень в них заинтересована, это мне навевает некие печальные аналогии, но пока я в ней состою. Другой партии государственного строительства у нас покуда еще нет.
СМИ.Ru:
– И, тем не менее, вы достаточно тепло отозвались о Партии жизни, а вернее, «Справедливой России»…
– У каждого человека есть прошлое. В свое время я состоял в достаточно мощном «Движении реалистов», которое возглавлял тогда Юрий Петров. Потом это движение трансформировалось в партию «За новый социализм». И я от этой партии в конце девяностых даже баллотировался в парламент. Слава богу, не прошел, но опыт был полезный для писателя. Мне очень близка социал-демократическая идея. И я вижу, что «Справедливая Россия» социалистическую идею развивает. Мне это нравится. Почему я должен это скрывать?
Степан, Москва:
– В чем вы видите национальную идею России?
– На этот вопрос я отвечу коротко. В свое время, когда была общая ажитация по поводу этой самой национальной идеи, я предложил свою формулировку, которая состоит из трех «Д» – духовность, державность, достаток. Для особо интересующихся есть еще и четвертая «Д» – демократия. Хотя я лично считаю, что понятие демократии входит в державность. Но некоторые так не считают, поэтому пусть будет четыре «Д». В принципе, в данной формуле, на мой взгляд, есть все, что должна содержать национальная идея. Духовность – это развитие нашей национальной, культурной традиции. Державность – это укрепление государственности, использование в государственном строительстве имманентно присущих нам способов организации народа в государство, а не навязанных извне. Достаток – речь о том, что в России богатство никогда не уважалось, Россия всегда была ориентирована на достаток, и люди в нашей этнической и религиозной традиции накопленное часто в конце жизни передавали на какие-то благие дела. То есть культа денег любой ценой у нас никогда не было, и то, что сейчас это пытаются навязывать, конечно, неправильно. Ну а демократия – это для тех, кто не понимает, что державность сама по себе подразумевает демократию. Если вспомнить историю, у нас была империя, у нас было самодержавие, но у нас было земство. А в Америке была демократия и одновременно плантаторское рабство. Что лучше, империя с земством или демократия с рабством? Вот тут пусть каждый решает для себя сам.
Николай Гошко, Одинцово Московской области:
– Юрий Михайлович, нет желания написать «ЧП общероссийского масштаба» (комсомольцы четверть века спустя)?
– Николай, видимо, не читал мои последние вещи. Я никогда не оставлял судьбы героев без внимания. В моих романах «Замыслил я побег» и «Небо падших» как раз прослежена капиталистическая судьба героев ЧП и «Апофегея». Кстати, готовя пятитомник к своему пятидесятилетию, я еще раз перечитал текст и понял, насколько литература тонко чувствует грядущие исторические катаклизмы. Я писал о комсомольских, партийных функционерах и бюрократах, а на самом деле вышло описание внутриутробного периода развития российских капиталистов, российских олигархов и т. д. Вот это поразительно! Хотя тогда, в восемьдесят первом году, когда я закончил «ЧП районного масштаба», мне и в голову не могло прийти, что мои герои через всего-то десять лет станут капиталистами. Но так как это произошло, я решил вернуться к их судьбам. Меня даже кое-кто критиковал за то, что я пишу все про этих комсомольцев и комсомольцев. А я всегда говорил: «При чем здесь комсомольцы? Не вешайте ярлык – «партия», «комсомол»! Да, такие были формы организации общества, и это надо воспринимать без какой-то эмоциональной оценки: хорошо или плохо». Опричнина – хорошо или плохо? А декабристы – хорошо или плохо? Кому как. Если вы, допустим, перечитаете «Апофегей» и сравните его с «Духless» Минаева, то увидите: он по сути продолжает мои темы. Заметьте, даже названия: «Апофегей» – неологизм, который тогда подхватил народ, и «Духless» – бездуховность, означают примерно одно и то же. Та же самая жизнь аппаратчика, только у меня комсомольского или партийного аппаратчика, а у Минаева аппаратчика-менеджера. Те же проблемы: или нормальная нравственная жизнь или карьера любой ценой, или любовь или похоть, и т. д. Нынешнее поколение литераторов думает, что оно упало с неба – ничего подобного. Они выросли из нашей поздней советской литературы.
Наталья, Москва:
– Юрий Михайлович, в ваших книгах, как правило, потрясающе интересные женские образы. Это мечта о невозможном самого Юрия Полякова или «собирательные» образы?
– В литературе образ всегда собирательный. Еще Толстой советовал: чтобы персонаж вышел живым, надо иметь перед внутренним взором какого-то знакомца или знакомицу. Это нормально. Потом образ все равно в тигле творчества переплавится, но первоначальная жизненность останется. А мой интерес к женским образам объясняется тем, что отношения мужчины и женщины, в моем понимании, являются главным содержанием литературы.
Игорь, Киев:
– Не скажите! Ей на смену пришла диктатура идейно-художественной группы, к которой ты принадлежишь. И с помощью нынешних литературных премий писателя держат за кадык покруче, чем его держали отдел культуры ЦК партии и Пятое управление КГБ, вместе взятые. Потому что большинство писателей сейчас работают за премии. Премий много, есть большие, по пятьдесят, сто тысяч баксов. И дают их не за художественный уровень, а за верность своей партийно-художественной группе.
– А много таких групп?
– Основные как были, так и остались: либералы-западники и патриоты-ортодоксы. Но есть масса градаций.
– А вы к кому примкнули?
– Ни к кому. Я все эти годы существовал абсолютно автономно. Такое возможно, если ты успешный писатель. У меня выходят книги огромным по нашим временам тиражом. Скажем, за год продано почти сто тридцать тысяч «Грибного царя».
Об институте брака
– Вас послушаешь – что только семье не угрожает! И деньги, и возраст, и усталость друг от друга…
– И еще – сексуальная раскрепощенность общества. Как-то мы сидели в одной компании, и одна милая дама говорит: «Я недавно за границей купила в секс-шопе замечательный вибратор, он такой маленький, как голубиное яйцо с ворсинками, несколько режимов. Просто улетаешь!» Я подумал: боже мой, десять лет назад все провалились бы под стол. А теперь спокойно, по-деловому стали спрашивать: а он на батарейках? А ее муж сидит и благосклонно кивает… Проблема сексуальной удовлетворенности тоже стала полноправным участником брачной драмы. Есть хорошая поговорка: не дотерпеть – пропасть и перетерпеть – пропасть. Так вот, если сексуальное счастье в браке совсем не имеет значения, это разрушает брак. Но когда этот момент ставится во главу угла, он тоже разрушает. Здесь важна верная пропорция.
– Вы считаете, сам институт брака пошатнулся?
– Да, он переживает кризис. Возможно, это связано с постепенной утратой мужчиной его лидирующего положения в обществе, и с возвращением если не в матриархат, то к установлению равновесия между патриархатом и матриархатом. Никто не знает, какие мутации происходят с хомо сапиенс.
– А вот на западе опять пропагандируют культ семьи…
– Там у них гораздо более поздние браки: люди идут на это не под влиянием эмоций, а как на достаточно хладнокровную сделку. Кроме того, там суровые законы, и при разводе столько приходится платить… Хотя и за границей все равно стоит проблема принципиально одинокой жизни. Большое количество женщин сегодня не видят в браке необходимости. Зачем? Они рожают вне брака двух детей, пособия на этих детей хватает, чтобы жить. Мы вступили в эпоху кризиса моногамии…
– Ну, разговоры об этом возникают не в первый раз, а брак пока держится…
– Да, брак уже пережил несколько кризисов. И может в очередной раз из него выйти. В какой это форме произойдет, я не знаю. Но меня не случайно в последние годы, о чем бы я ни писал, заносит в тему кризиса семьи. Писатель – невольник эпохи, карандаш в ее руках. Значит, здесь действительно что-то происходит…
– А вы сами прошли через кризис семьи?
– Конечно. Я женат давно уже, больше тридцати лет.
– Вы уже вышли из кризиса?
– Я думаю, что я в нем еще нахожусь… Это тяжело по-человечески, но полезно для писателя…
Беседу вела Наталья БАРАБАШ
«Комсомольская правда», 12 октября 2006 г.
«Нынешнее поколение литераторов думает, что оно упало с неба…»
Интернет-конференция в СМИ.ру, 26 ноября 2006 г.
Эдуард, Воронеж:
– Не кажется ли вам, что тот ритуальный спектакль, что устроили вокруг действительно злодейского убийства Политковской оппозиционные и западные СМИ, а также западные политики, может привести к совершенно чудовищному «смертельному» результату – убийство человека станет удобным рычагом поворота международной политики? А резкая международная реакция будет порождать новые убийства. То есть идет грязная шахматная игра: пешек будут коварно приносить в жертву – вновь и вновь. Такой будет метод международной политтехнологии при участии дешевых киллеров.
– Я никогда не был, что называется, поклонником Анны Политковской, хотя признавал ее энергию, профессионализм. Но получается поразительная вещь – достоянием международной общественности становятся трагедии, происходящие только с журналистами, скажем так, либерального пула, явно придерживающимися прозападных взглядов. Хотя большие неприятности случаются и с журналистами, допустим, государственно-патриотического толка. Вот этот двойной стандарт меня огорчает, потому что, как пелось в советской песне, «каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог», и меня одинаково волнует судьба журналистов и либерального, и патриотического лагеря. Поэтому, глубоко сочувствуя судьбе Анны Политковской, все-таки вот такой перекос я не могу не отметить. И еще мне кажется, ее гибель связана не с ее взглядами, а с той странно-бурной деятельностью, которую она развила в годы чеченской войны… Да, смерть Политковской использовалась, как выражается уважаемый Эдуард, в качестве «метода международной политтехнологии». Широко использовалась. Если мы вспомним, и президенту Путину первый вопрос во время последней «Прямой линии» задали по поводу смерти Политковской. Так что, к сожалению, надо признать, что ее трагическая гибель, западными антироссийски настроенными силами была использована во вред России.
Максим, Москва:
– Как вы думаете, имеет ли право называться НАСТОЯЩИМ ЖУРНАЛИСТОМ человек, позволяющий себе устраивать то, что устроила не так давно Евгения Марковна Альбац и ее коллеги из «Новой газеты» в прямом эфире «Эха Москвы»? Я имею ввиду истеричную травлю (трое на одного!) приглашенной в программу журналистки Анны Арутюнян за то, что та несколькими днями ранее написала статью об Анне Политковской, в которой достаточно мягко позволила себе усомниться в журналистских заслугах последней. На ваш взгляд, имеют ли такие люди право выступать от имени всего журналистского сообщества (а именно это они сейчас и делают)? Не слишком ли много они на себя берут?
– К сожалению, у нас есть тип журналистов, которые воспринимают свободу слова односторонне, – они считают, что право высказывать свое мнение есть только у них, а всем остальным они в этом праве отказывают. Это болезнь нашей либеральной журналистики. Точно такая же история на «Эхе Москвы» была с Матвеем Ганапольским, который чуть ли не матом покрыл (мы об этом писали в «Литературной газете») человека, позвонившего во время прямого эфира и высказавшего соображения, Ганапольского не устраивающие. Звонивший был обозван самыми чудовищными словами. Конечно, такие вещи ничего общего с журналистской этикой не имеют. Сам хорошо помню, как на том же «Эхе Москвы» я оказался в одном эфире с Ириной Хакамадой и Сергеем Доренко. Последний, если вы помните, в свое время вел на Первом канале передачу, в которой активно гнобил Лужкова. Так вот, все было хорошо до тех пор, пока я деликатно не напомнил Хакамаде о ее рекомендации шахтерам собирать грибы и ягоды. После этого вместо интеллигентной женщины в эфире обнаружилась фурия, поддержанная телевизионным киллером Доренко. В результате нормальный обмен мнениями людей, по-разному смотрящих на политическую ситуацию, превратился в самый настоящий «бой без правил». Хотя, справедливости ради хочу заметить, что есть на «Эхе Москвы» и высокопрофессиональные сотрудники. Например, Майя Пешкова или Ксения Ларина, с которыми я всегда с удовольствием беседую в эфире.
Что же касается права таких людей, как Альбац, выступать от лица всего журналистского сообщества, то я не думаю, что у них оно есть. Навешивание всяческих ярлыков является характерной особенностью нашей либеральной журналистики. Консерваторы, к коим я себя смею относить, гораздо терпимее. И я бы не стал говорить, что они слишком много на себя берут. Просто они, как сейчас модно говорить, пытаются позиционировать себя как российскую интеллигенцию. Все остальные, в их представлении, к ней – к интеллигенции – никакого отношения иметь не могут в принципе. На самом же деле надо понимать, что российская интеллигенция – это гораздо более сложный организм, где есть и либеральное, и почвенническое, и центристское, и монархическое, и консервативное направления. Причем, чем дальше от Москвы, тем концентрация либералов среди интеллигенции меньше. «Литературная газета» в свое время с этим столкнулась. Как только в ней в девяносто первом году возобладала либеральная моно-идеология, газета тут же потеряла всех своих региональных читателей, потому что им стало неинтересно. Но сколько я своим друзьям-писателям и журналистам-либералам об этом ни говорил, все без толку.
Светлана, Москва:
– Сейчас многие говорят о том, что в России больше нет реальной оппозиции власти. Скажите, может ли Общественная палата, которую вы представляете, в какой-то мере заполнить опустевшую нишу?
– Мне очень приятно, что почему-то меня в последнее время часто именуют членом Общественной палаты. Видимо, общественность хотела бы меня там видеть, я так это понимаю. Но дело в том, что я не член Общественной палаты, я член двух президентских советов – по правам человека и по культуре, что тоже, считаю, достаточно серьезно. Что касается оппозиции власти. В России журналистика и литература очень часто выполняли функции отсутствующей политической оппозиции или выражали настроения действительно оппозиционной части политического класса, который в силу сложившихся обстоятельств не мог себя так позиционировать. Проще говоря, борьба в двадцатых-тридцатых годах у коммунистов, несмотря на монополию политической власти, все равно шла очень жесткая. И была своя оппозиция, что оборачивалось различными внутрипартийными скандалами и интригами. Большинство писателей и журналистов пострадали впоследствии не за свои литературные грехи, а именно за то, что они были активными участниками и выразителями той или иной политической группы. Например, абсолютно антикоммунистически настроенный и даже имевший в своем послужном списке службу в Белой армии Михаил Булгаков умер своей смертью, а пламенный революционер, работавший активно на органы НКВД, Михаил Кольцов был расстрелян. Ну и так далее, примеров очень много.
Сейчас у нас, я считаю, все-таки постепенно складываются условия формирования и структурирования политической оппозиции. Твердящие о том, что у нас нет политической оппозиции, видимо, вспоминают расстрел Белого дома. Но тогда все претензии не к Путину, а к Ельцину. А нужна ли нам политическая ситуация, следствием которой могут стать такие эксцессы? Я думаю, что не нужна. И я очень надеюсь, кстати говоря, что сейчас вокруг Партии жизни, которая слилась с пенсионерами и т. д., сформируется партия социалистической ориентации. Говорят, вот, мол, у американцев, демократия. Но надо понимать, что у нас совсем другая политическая история. Ведь не рвут на себе волосы американцы оттого, что они только в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году отменили рабство. Французы же не комплексуют из-за того, что они дали избирательные права женщинам только в середине двадцатого века. Они же не объявляют все предшествовавшие этому годы каким-то мрачным средневековьем! У каждого своя политическая и экономическая история. Уверен, страна развивается нормально, причем именно в путинский период. К примеру, во времена Ельцина я со своими политическими взглядами никогда бы не стал главным редактором «Литературной газеты». И никакой вообще газеты. Почему? Потому что как раз тогда, при Ельцине, оппозицию очень здорово прижимали. А сейчас, я считаю, у нас оппозиция более-менее живет, и дай ей бог.
Людмила, Москва:
– Как вы относитесь к политике в настоящий момент и в какой партии вы состоите или хотели бы состоять?
– Уважаемая Людмила, вам я сразу хочу сказать, что в России писатель не может быть аполитичным, у нас так сложилось. Хотя есть литераторы, декларирующие презрение к политике – Акунин, Улицкая… Но это маска. Просто само по себе участие в политическом процессе бывает разное. Это может быть и известное коллективное письмо «раздавите гадину», с которым наши либеральные интеллигенты, вроде Чудаковой, обратились к Ельцину, и он пролил кровь по просьбам интеллектуалов. Но и публицистика – тоже политика. Вот я, например, много пишу статей. Они у меня вышли даже отдельной книжкой под названием «Порнократия». Так что я абсолютно нормально отношусь к политической деятельности. А все разговоры о том, что «я вне политики», смешны. Я знаю писателей, которые сначала заявляют «я вне политики», а потом отправляются за счет агентства по культуре в какую-нибудь загранкомандировку, и первое, что они делают там – начинают нести Россию именно за политику. Какой же это аполитизм? Нет, это тоже политика, но только причудливая.
А состою я в «Единой России». Вступил несколько лет назад, увидев в ней проект «партии российской государственности». Меня в ту пору очень беспокоил именно этот вопрос: в одной из своих статей я назвал такое состояние общества «государственной недостаточностью». По аналогии с сердечной недостаточностью. Не могу сказать, что я работаю в «Единой России» активно. Да и сама партия, на мой взгляд, неверно относится к состоящим в ней творческим работникам. Как-то она не очень в них заинтересована, это мне навевает некие печальные аналогии, но пока я в ней состою. Другой партии государственного строительства у нас покуда еще нет.
СМИ.Ru:
– И, тем не менее, вы достаточно тепло отозвались о Партии жизни, а вернее, «Справедливой России»…
– У каждого человека есть прошлое. В свое время я состоял в достаточно мощном «Движении реалистов», которое возглавлял тогда Юрий Петров. Потом это движение трансформировалось в партию «За новый социализм». И я от этой партии в конце девяностых даже баллотировался в парламент. Слава богу, не прошел, но опыт был полезный для писателя. Мне очень близка социал-демократическая идея. И я вижу, что «Справедливая Россия» социалистическую идею развивает. Мне это нравится. Почему я должен это скрывать?
Степан, Москва:
– В чем вы видите национальную идею России?
– На этот вопрос я отвечу коротко. В свое время, когда была общая ажитация по поводу этой самой национальной идеи, я предложил свою формулировку, которая состоит из трех «Д» – духовность, державность, достаток. Для особо интересующихся есть еще и четвертая «Д» – демократия. Хотя я лично считаю, что понятие демократии входит в державность. Но некоторые так не считают, поэтому пусть будет четыре «Д». В принципе, в данной формуле, на мой взгляд, есть все, что должна содержать национальная идея. Духовность – это развитие нашей национальной, культурной традиции. Державность – это укрепление государственности, использование в государственном строительстве имманентно присущих нам способов организации народа в государство, а не навязанных извне. Достаток – речь о том, что в России богатство никогда не уважалось, Россия всегда была ориентирована на достаток, и люди в нашей этнической и религиозной традиции накопленное часто в конце жизни передавали на какие-то благие дела. То есть культа денег любой ценой у нас никогда не было, и то, что сейчас это пытаются навязывать, конечно, неправильно. Ну а демократия – это для тех, кто не понимает, что державность сама по себе подразумевает демократию. Если вспомнить историю, у нас была империя, у нас было самодержавие, но у нас было земство. А в Америке была демократия и одновременно плантаторское рабство. Что лучше, империя с земством или демократия с рабством? Вот тут пусть каждый решает для себя сам.
Николай Гошко, Одинцово Московской области:
– Юрий Михайлович, нет желания написать «ЧП общероссийского масштаба» (комсомольцы четверть века спустя)?
– Николай, видимо, не читал мои последние вещи. Я никогда не оставлял судьбы героев без внимания. В моих романах «Замыслил я побег» и «Небо падших» как раз прослежена капиталистическая судьба героев ЧП и «Апофегея». Кстати, готовя пятитомник к своему пятидесятилетию, я еще раз перечитал текст и понял, насколько литература тонко чувствует грядущие исторические катаклизмы. Я писал о комсомольских, партийных функционерах и бюрократах, а на самом деле вышло описание внутриутробного периода развития российских капиталистов, российских олигархов и т. д. Вот это поразительно! Хотя тогда, в восемьдесят первом году, когда я закончил «ЧП районного масштаба», мне и в голову не могло прийти, что мои герои через всего-то десять лет станут капиталистами. Но так как это произошло, я решил вернуться к их судьбам. Меня даже кое-кто критиковал за то, что я пишу все про этих комсомольцев и комсомольцев. А я всегда говорил: «При чем здесь комсомольцы? Не вешайте ярлык – «партия», «комсомол»! Да, такие были формы организации общества, и это надо воспринимать без какой-то эмоциональной оценки: хорошо или плохо». Опричнина – хорошо или плохо? А декабристы – хорошо или плохо? Кому как. Если вы, допустим, перечитаете «Апофегей» и сравните его с «Духless» Минаева, то увидите: он по сути продолжает мои темы. Заметьте, даже названия: «Апофегей» – неологизм, который тогда подхватил народ, и «Духless» – бездуховность, означают примерно одно и то же. Та же самая жизнь аппаратчика, только у меня комсомольского или партийного аппаратчика, а у Минаева аппаратчика-менеджера. Те же проблемы: или нормальная нравственная жизнь или карьера любой ценой, или любовь или похоть, и т. д. Нынешнее поколение литераторов думает, что оно упало с неба – ничего подобного. Они выросли из нашей поздней советской литературы.
Наталья, Москва:
– Юрий Михайлович, в ваших книгах, как правило, потрясающе интересные женские образы. Это мечта о невозможном самого Юрия Полякова или «собирательные» образы?
– В литературе образ всегда собирательный. Еще Толстой советовал: чтобы персонаж вышел живым, надо иметь перед внутренним взором какого-то знакомца или знакомицу. Это нормально. Потом образ все равно в тигле творчества переплавится, но первоначальная жизненность останется. А мой интерес к женским образам объясняется тем, что отношения мужчины и женщины, в моем понимании, являются главным содержанием литературы.
Игорь, Киев: