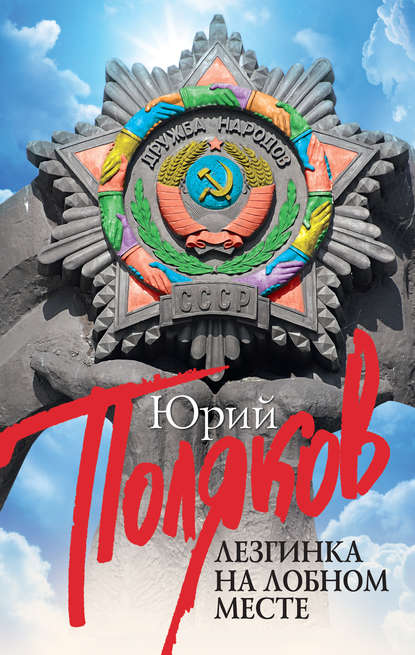По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лезгинка на Лобном месте (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лезгинка на Лобном месте (сборник)
Юрий Михайлович Поляков
Публицистика Юрия Полякова, так же как и его художественная проза, всегда вызывала бурный отклик читателей и явное недовольство властей.
Прочтя эту книгу, вы сможете не только приобщиться к острой, неординарной мысли писателя, оценить его афористично-иронический стиль, но и убедиться в том, насколько в своих прогнозах и предвидениях автор опережает текущий момент. Кстати, используя в наших политических спорах некоторые словечки и выражения, мы даже не подозреваем, что попали они в современный язык из статей Юрия Полякова.
Юрий Поляков
Лезгинка на Лобном месте
Предисловие автора
Когда я был начинающим читателем, меня огорчало, что в собраниях сочинений классиков следом за любимыми произведениями идут зачем-то тома с публицистикой. «Не могу молчать!» Эх, Лев Николаевич, лучше бы помалкивал и сочинял продолжение «Войны и мира», а то ведь так и не рассказал, как Безухов стал декабристом, а Наташа поехала за ним в Сибирь. Или – Пушкин! Сколько наш гений потратил сил на газетные перепалки с Булгариным, а «Египетские ночи», отраду отроческого эротизма, так и не закончил. Жаль… Только с годами я понял, какое это увлекательное чтение – публицистика былых времен. Она доносит до нас бури и страсти минувшего, нравственные искания и политические сшибки, сотрясавшие людей, давно умерших, и страны, давно исчезнувшие с карт! Нет, это не прошлогодний снег, скорее, некогда раскаленная, а теперь застывшая лава. И ее прихотливые нагромождения странно напоминают ландшафт нашей нынешней жизни. Впрочем, ничего удивительного: проклятые вопросы и бездонные проблемы мы получили в наследство вместе с нашей землей, историей, верой, вместе с супостатами – внутренними и внешними. Прочтешь порой какое-нибудь место из «Дневника писателя», глянешь в телевизор, послушаешь очередного вольнонаемного охмурялу и ахнешь: «Ну, Федор Михайлович, ну, пророчище!»
И все же: почему поэты, прозаики, драматурги пишут статьи? Неужели они не могут свести счеты со Временем при помощи, скажем, могучей эпопеи, разительной поэмы или комедии, которую современники тут же растащат на цитаты, как олигархи растащили общенародную собственность? А ведь есть еще эпиграммы, памфлеты и антиутопии, позволяющие от души поквитаться с неудовлетворительной действительностью. Но литераторы, в том числе автор этих строк, продолжают писать статьи. Почему? А потому, что процесс художественного творчества долог, сложен, противоречив и непредсказуем. Да и само влияние художественного текста на общество неочевидно и ненадежно, напоминает скорее поддерживающую терапию или даже гомеопатию. А что делать, если требуется молниеносное врачебное вмешательство – тот же прямой массаж сердца? Ведь случаются события, от которых, как пелось в революционной песне, «кипит наш разум возмущенный», когда хочется отхлестать гнусную рожу действительности наотмашь, вывалить политикам, соотечественникам, самому себе все и сразу, пока не остыл, не забыл, не перекипел, ведь отходчив русский человек, непростительно отходчив…
Кстати, реакция общества и власти на актуальные публицистические высказывания гораздо острее и болезненнее, нежели на художественно упакованные инвективы. Иные начальники государства даже испытывают пикантное возбуждение, узнавая себя в цветистых сарказмах романиста. Но не дай бог заикнуться о том же самом в газете: старуха Цензура тут же заточит свой синий карандаш. 6 октября 1993 года «Комсомольская правда» опубликовала мою статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», осуждавшую расстрел Белого дома. Все антиельцинские издания были к тому времени запрещены, и моя статья оказалась единственным в открытой прессе протестом против утверждения демократии с помощью танковой пальбы по парламенту. Между прочим, стократ проклятые за жестокость большевики Учредительное собрание всего-навсего распустили. Почувствуйте разницу!
В итоге «Комсомольскую правду» тоже закрыли. Правда, на один день. Потом одумались и открыли. А меня занесли в какой-то черный список, из которого вычеркнули только при Путине. Не могу сказать, что это сильно омрачило мне жизнь, хотя, скажем, из школьной программы разом вылетели мои повести, из энциклопедий исчезла всякая информация обо мне. А «Литературная газета», где я прежде был любимым автором, закрыла передо мной редакционные двери до скончания века, точнее, до 2001 года, когда меня призвали туда главным редактором. Нет, я не жалуюсь, а хочу обратить внимание на то, что любая власть борется с инакомыслием одинаково: начинает с замалчивания, а заканчивает замачиванием.
В мае 94-го в той же «Комсомольской правде» было напечатано мое эссе «Россия накануне патриотического бума». Друзья и недруги решили, что я повредился в уме от политических треволнений. В самом деле, в то время слово «патриот» стало почти бранным, а теледикторы, если и произносили его, то с непременной брезгливой судорогой на лице. Не знаю, откуда взялась уверенность, что строить новую Россию нужно на фундаменте стойкой неприязни к Отечеству, но могу предположить: идея исходила от тех политических персонажей, которые видели в «новой России» лишь факторию для снабжения цивилизованного Запада дешевым туземным сырьем. С патриотизмом боролись так же истово и затейливо, как прежние воинствующие безбожники с религией. И так же безуспешно. Мой прогноз оказался верен: сегодня патриотизм опять в чести, государство финансирует дорогостоящие программы по воспитанию отчизнолюбия, на автомобилях развеваются георгиевские ленточки, кудрявые эстрадные попрыгунчики снова запели о русском раздолье, а те же самые теледикторы артикулируют трудное слово «патриотизм» с тяжким благоговеньем. Но почему, почему же у меня никак не исчезнет ощущение, что живу я все-таки в фактории, занимающей одну седьмую часть суши?
Когда в 97-м я впервые собрал воедино статьи, написанные в течение десяти лет и разбросанные по газетам-журналам, у меня получился своего рода невольный дневник. Именно дневник. Во-первых, я живо откликался на все значительные события и происшествия, во-вторых (это главное!), всегда был искренним в своих суждениях. А искренность в писательской публицистике встречается не так уж часто, хотя, казалось бы, именно откровенностью интересен литератор. Лукавство – это, скорее, трудовой навык политика. Впрочем, по моим наблюдениям, число профессионально неискренних писателей неуклонно растет, это, наверное, какая-то мутация, вроде клопов с запахом «Шанели». И нынче редкий столп общества или вечнолояльный деятель культуры отваживается свести в книгу и представить на суд читателя свои статьи именно в том виде, в каком они увидели свет двадцать, десять или пять лет назад. Для этого надо верить в то, что твоя деятельность не была противоречива до идиотизма или изменчива до подлости.
Я же не боюсь предстать перед читателем в изменчивом развитии, ибо заблуждался не в поисках выгоды, а если обольщался, то от бескорыстной веры в торжество справедливости и здравого смысла, который побеждает обычно в тот момент, когда башня, сложенная из нелепостей, падает на головы строителям. За минувшие два десятилетия я выпустил несколько сборников публицистики, и по названиям можно проследить, как менялись настроения, симпатии и устремления автора. Судите сами: «От империи лжи – к республике вранья», «Порнократия», «Россия в откате», «Зачем вы, мастера культуры?»… И вот теперь – «Лезгинка на лобном месте». Готовя тексты к печати, я лишь исправил ошибки, неточности и погрешности стиля, объяснимые жгучей торопливостью, но оставил в первозданном виде все прочее, хотя мне и неловко за иные тонкоголосые пророчества и наивные суждения. Зато некоторыми моими прогнозами и оценками я горжусь, как поэт гордится метафорой, такой яркой и внезапной, что соперникам по джигитовке на Пегасе остается лишь завистливо цокать языками.
И последнее замечание. Публицистика необходима писателю еще по одной причине. Статьи, точно предохранительные клапаны, позволяют литератору выпустить лишний пар – социальный гнев, ярость оскорбленной нравственности, мимолетную обиду на подлость эпохи, тоску бытовых неурядиц. Это важно, ибо настоящий художник не должен валить в свое произведение шелуху сиюминутности, он обязан отбирать осмысленные зерна жизни. Ныне появились многочисленные литераторы, которые с помощью сочинительства лечат себя от ночных кошмаров и социального уныния, но, увы, чтение их текстов мало чем отличается от визита к дантисту, подрабатывающему проктологом. Да, художник имеет право на пристрастие, но без гнева. Он должен попытаться понять всех, ведь у самого последнего негодяя есть своя правота перед Богом, а у самого нравственного человека – свои помрачения сердца. Но об этом – в моих романах, повестях, пьесах…
Август 2013 г., Переделкино
Десовестизация
Томление духа
«Я вырастал в глухое время…» – это сказано обо мне и моем поколении. Мне – тридцать три. Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать точнехонько укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям, очень подходит строчка из Писания «Суета и томление духа». Томление духа. Было оно, было томление духа. Была бы одна только суета – и говорить что-либо нынче посовестился бы!
Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в кровавые, несправедливые или вымороченные годы. Человека можно обречь на бессмысленную суету, но заставить считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной, к счастью, невозможно. Увы, именно на эту особенность людских душ всегда рассчитывают разного рода пакостники, выдающие себя за творцов истории: мол, будут людишки свои прожитые годы оправдывать и нас заодно оправдают…
Смертная чаша сталинского террора миновала мое поколение. Мы не видели физического уничтожения инакомыслящих, но мы видели другое. Вот могучий столоначальник взглянул на своего ершистого молодого подчиненного и, покачав головой, промолвил: «Товарищ не понимает…» Но это еще полбеды, хотя и ее иным хватало на всю оставшуюся жизнь. А вот если о твоих мыслях и разговорах сказано: «С душком!» – это уже настоящая беда. О, эти деятели с чуткими политическими носами! Скольким моим ровесникам они сломали хребты!
Это в моем поколении появились бичи с высшим философским образованием и со своим собственным, никому не нужным взглядом на мироздание. Это в моем поколении появились воины-интернационалисты, которые сегодня вынуждены оправдываться, что недаром проливали кровь на чужой земле, хотя оправдываться должны не они, а те, кто их посылал. Это в моем поколении появились рабочие парни, проникающиеся чувством пролетарской солидарности только в очередях за водкой. Это в моем поколении начался исход творческой молодежи в дворники и сторожа. Это в моем поколении явились миру инженеры-шабашники, которые, перекуривая на кирпичах возле недостроенной фермы, спорили о вполне реалистических, но совершенно нереальных тогда планах перестройки экономики. Это в моем поколении завелись преуспевающие функционеры, те, что, отдремав в очередном президиуме и воротившись домой, любили перед сном перечитать избранные места из ксерокопированного Оруэлла, приговаривая: «Во дает, вражина! Один к одному…»
Тем временем социализм становился все более развитым, а единственный привилегированный класс – дети – все более заторможенным. Все эти годы бессмысленно расходовались не только природные богатства страны, но и духовные ресурсы нации. Хочется верить, что второе, в отличие от первого, восстановимо.
А. Блок писал некогда о «тайной свободе». Применительно к моему поколению я бы говорил о «кухонной свободе». Ведь сознаемся: многое из того, о чем пишут сегодня газеты и журналы, было нам известно и служило издавна предметом горячих кухонных споров. Генералиссимус никогда не был для нас великим стратегом, Раскольников и Чаянов никогда не были преступниками, Жданов никогда не был выдающимся «организатором культурной жизни страны», коллективизация никогда не была «героической страницей истории социалистического строительства». Если б мы ничего этого не ведали, то у нас сейчас была бы не Гласность, а, например, Осведомленность.
Некоторые товарищи опасаются, что «чрезмерная» гласность приведет молодежь к непочтительности и даже нигилизму. Не волнуйтесь, дорогие товарищи! Гласность воспитывает именно уважение к устоям, а непочтительность происходит от той закамуфлированной под передовую идеологию белиберды, которой с лихвой хлебнуло мое поколение. Поэтому, наверное, отличительная черта моего ровесника – ирония. А что вы хотите, если любой доклад тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?!
Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспренного вранья, и, может быть, поэтому не окаменели.
Со временем, думаю, выйдут в свет сборники анекдотов и черного юмора – свидетельства горького народного оптимизма. Надеюсь, что они собраны, по крайней мере, компетентными органами, и мы убедимся, с каким мужеством и блеском люди отстаивали свое право не верить в директивную ложь, не любить придуманных героев, не восхищаться несуществующими победами… Я даже вижу будущую монографию о том, почему трилогию «Малая Земля» – «Возрождение» – «Целина» народ гениально окрестил «Майн кайф»…
Еще со школы помню: загнивавшей дворянской молодежи была свойственна «вселенская скорбь». Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа, ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание! Ирония вполне может быть мировоззрением отдельных граждан, деятелей культуры, даже ответработников (кстати, среди них я чаще всего встречал ироничных людей). Но ирония не может быть мировоззрением народа! Она не созидательна. Не потому ли у нас сталкиваются или горят пароходы, сходят с рельсов поезда, заливаются недавно принятые комиссией дома, что живем точно невсерьез? Хирург не должен с инфернальной улыбочкой залезать к нам во внутренности, учитель не имеет права с двусмысленной усмешкой внушать идеалы, в которые сам не верит, офицеру негоже, видя, как бессильно извивается на перекладине доходяга-призывник, цедить с ухмылкой: «Вот ЧМО, что от него ждать»… ЧМО – это человек Московской области. Научно выражаясь, аббревиатура.
Общество жалуется, что выросло поколение с несерьезным отношением к труду, к окружающим людям, к прошлому… А если вознаграждение за труд дает человеку лишь бескрайние возможности вставать в любую очередь за любым выброшенным в торговую сеть дефицитом? А если ближний твой воспринимается прежде всего как конкурент в трудном деле обретения этого самого дефицита, и, может быть, именно поэтому люди разучились улыбаться друг другу? А если в системе сервиса на одну условную единицу услуг мы получаем десять единиц безусловного хамства? А если диалектический закон отрицания состоит прежде всего в том, что каждый вновь назначенный столоначальник полностью отрицает своего предшественника, снятого с должности и строго наказанного персональной пенсией всесоюзного значения? Откуда взяться серьезному отношению?!
Вы когда-нибудь видели, скажем, в обкоме партии портреты первых секретарей, допустим, за последние пятьдесят лет? Чтобы висели в хронологическом порядке, с указанием заслуг и промахов. Если снят – за что? Если повышен – почему? Лично я таких галерей ни в обкомах, ни в горкомах, ни в райкомах не видел. Может быть, боимся: вывесим их всех рядком-ладком и получится что-то вроде истории города Глупова…
Впрочем, если говорить без иронии, корни этой безликой истории уходят гораздо глубже. Сколько десятилетий вся предшествующая философия толковалась только как постамент под скульптурную группу – «Маркс и Энгельс читают первый номер “Новой рейнской газеты”», вся предшествующая литература – как пробы пера в поисках метода социалистического реализма, вся предшествующая история – как учебные стрельбы перед залпом «Авроры». Гуманитарное образование, полученное моими сверстниками в вузе, можно назвать образованием, лишь не выезжая за пределы Отчизны. Та же ситуация, что и с рублем.
Ладно, бог с ними, с этими излишествами! Но уж историю нашей революции, которая потрясла мир, мы учили как следует! Три этапа освободительного движения в России знаем как «Отче наш». Впрочем, кто ныне знает «Отче наш»…
Да, нам смутно ведомо, что в третьем этапе освободительного движения, ради которого, собственно, декабристы и будили Герцена, кроме большевиков, участвовали еще какие-то партии. Что знает о них мой ровесник, не занимавшийся этим вопросом специально? Знает примерно следующее. Анархисты – заговорщики. Лохматые, бородатые, с тягой к уголовщине. Черное знамя с черепушкой. Требовали, дураки, отменить государство, совершенно не соображая, кто же будет присылать конную милицию, когда народ после матча прет со стадиона. Эсеры (правые) – заговорщики. Косой пробор, рука засунута за борт френча. У их лидера были «глаза бонапартьи», и он бежал от гнева народных масс, переодевшись в женское платье. Не поняли исторических слов знаменитого матроса: «Господа, расходитесь, караул устал!» – и почему-то не могли смириться с роспуском Учредительного собрания, где имели большинство. Меньшевики – заговорщики. Вот он, маленький, суетливый меньшевик выступает на митинге и поначалу даже несколько сбивает отдельных рабочих с толку, но потом на грузовик влезает большевик, передает массам привет от товарища Ленина и под свист и улюлюканье выгоняет оппортуниста с митинга. Эсеры (левые) – заговорщики. Сначала дружили с большевиками. Потом послали некоего Блюмкина убивать посла Мирбаха, а сами тем временем подняли мятеж. Посол убит, мятеж подавлен, партия левых эсеров распущена, а Блюмкин продолжал служить победившему народу на приличных должностях (вплоть до расстрела).
Мой ровесник с высшим образованием, знающий о политической жизни России больше, может с чистой совестью бросить в меня идейно выверенный камень!
А ведь я даже не говорю о каких-то там кадетах, которые, повязавшись салфетками, неопрятно жрут цыплят, пьют шампанское, заглядывают под юбки танцоркам кордебалета и рассуждают исключительно про Босфор и Дарданеллы. А их лидера так и прозвали – Милюков-Дарданелльский. Разумеется, заговорщики…
Велика ли честь переиграть в политической борьбе таких дебилов? Кого в конце концов дурачим? Кого унижаем – их, бывших, или нас, настоящих? Почему ярлыки, приклеенные тогда, в запале борьбы за власть, до сих пор приводятся как бездонные в своей историко-философской глубине оценки? Наконец признали, что сокрытие фактов и реалий нашего прошлого нанесло серьезный урон историческому сознанию народа. Но еще больший урон, по-моему, нанесло одурачивание истории или, если хотите, одурачивание историей.
Нынче любят говорить: у истории не бывает сослагательного наклонения. Не знаю, возможно, оно и так, но это никоим образом не должно мешать разбираться в давних аргументах наших соотечественников, придерживавшихся иных взглядов на будущее России и исповедовавших иные социальные теории. Это необходимо сделать, даже если бы наш путь в последние семьдесят лет был усыпан лепестками роз. В этом – вежливость потомков. Но путь-то был усеян не лепестками…
Конечно, проще и легче списать все наши послереволюционные неприятности на ужасный характер генералиссимуса, но поверьте, «задумчивые внуки», восстанавливая старательно порванную нами связь времен, однажды полюбопытствуют: а нет ли какой-нибудь связи между героическим матросом, заботящимся об уставшем карауле, и генсеком, прицеливающимся в делегатов XVII партсъезда из подаренной винтовочки?
Может быть, полезно задать себе вопрос: почему Гражданская война, отгороженная от нас бедами и победами Великой Отечественной, до сих пор не изглаживается из народной памяти? Не потому ли, что от той братоубийственной войны повелось беспощадное разделение на «чужих» и «своих»? На своих, ради которых можно, не задумываясь, отдать жизнь, и на чужих, которых, не задумываясь, нужно лишить жизни. И не это ли разделение стало впоследствии нравственной основой сталинских преступлений и изумительного народного единодушия: «Убить, как бешеных собак!».
Мог ли вчерашний южноуральский партизан поверить, что Блюхер – враг и японский шпион? Мог ли вчерашний делегат III съезда комсомола, где блестяще выступал и Н. И. Бухарин, поверить, что он – враг и бог знает чей шпион? Отвечу: мог! Мог, если отец двумя десятилетиями раньше мог убить сына, пошедшего с красными. Мог, если женщина могла застрелить своего единственного синеглазого за то, что он остался верен Белому делу. Перечитайте «Родинку» М. Шолохова и «Сорок первый» Б. Лавренева. Эти книги не запрещались, из библиотек не изымались. Человек переводился в разряд классовых врагов и сразу переставал быть человеком. Сначала врагом объявляется тот, кто против нас, потом тот, кто не с нами, потом тот, кто не поспевает за нами, потом тот, кто справа или слева… и так до бесконечности. Нетерпение всегда идет рука об руку с нетерпимостью. Именно это испугало в революции многих русских писателей, но еще совсем недавно их точка зрения квалифицировалась как «мелкобуржуазный гуманизм».
Из террора, какого бы цвета он ни был, народ не выходит обновленным, а только – ожесточенным. Жестокость, какой бы социальной демагогией она ни оправдывалась, остается жестокостью. И еще неизвестно, что от чего больше зависит – средства от цели или цель от средств, с помощью которых она достигается. Нет, я не клоню снова к сослагательному «бы» в истории. Я просто-напросто думаю о том, что даже единственно правильное в конкретно исторической ситуации решение порой может быть причиной будущих бед и трудностей.
Возьмем тот же комсомол. Уже на одном из первых съездов делегаты постановили распустить организации бойскаутов и юных коммунистов как чуждые истинному пролетарскому движению, считая, что комсомол один справится с молодежью. Возможно, тогда это было верным тактическим решением, но в результате сегодня семидесятилетний ВЛКСМ только учится общаться с неформальными объединениями молодежи, только разворачивается к конкретному молодому человеку, скрипя всеми своими структурами и сочленениями. И это понятно: трудно из министерства по делам молодежи, каковым комсомол обязывали быть многие десятилетия, взять и превратиться в боевую, живую, ищущую (ну и так далее) организацию. Тем более что нынешние партийные кураторы суть лучшие представители и воспитанники этого самого министерского комсомола.
Кстати, занимаясь историей комсомола, я совсем недавно смог на своем опыте убедиться, насколько широко распахнуты двери архивов и документохранилищ. Захотел почитать стенограмму того печально знаменитого пленума Цекамола, на котором решалась судьба А. Косарева и его сотоварищей. Выправил бумагу в ЦК ВЛКСМ, пришел в Центральный архив ЦК ВЛКСМ и как кандидат в члены ЦК ВЛКСМ попросил: дайте почитать. А один архивный руководитель мне и говорит: «Вы бы лучше почитали мой материал в “Комсомольской правде”. Что можно – там все есть…» Это называется, попил из реки по имени «факт». Что ж, продавца универмага мы узнаем по импортно-разымпортной упаковке, а архивариуса, видимо, по имеющимся у него в распоряжении дефицитным историческим сведениям. А ведь доступность информации – необходимое условие раскрепощения личности.
Есть у нас и еще одна беда, препятствующая раскрепощению личности. Это заштампованность сознания. Вот я, сравнительно молодой человек, садясь за доклад, допустим к профсоюзному собранию, волей-неволей начинаю его материалами съезда, в середочку вставляю цитату из В. И. Ленина, а заканчиваю документами недавнего пленума. Словами уважаемых основоположников мы перебрасываемся, как мячиками.
Захожу на почту и читаю огромный плакат: «Без почты, телеграфа и машин социализм – пустейшая фраза. Ленин». Про «плюс электрификацию», каковой увешаны все наши ГЭС, ГРЭС и АЭС, я просто не говорю. Вывелся целый вид деятелей, которые, составив обширную картотеку из цитат классиков, могут с их помощью доказать что угодно.
Не верите? Хорошо, допустим, завтра кому-то пришла в голову сумасшедшая идея закрыть все театры. Ликвидировать. Та-ак, смотрим на «Т»: Табак… Талейран… Театры… Вот, пожалуйста, из телефонограммы В. И. Ленина А. В. Луначарскому: «Все театры советую положить в гроб»…
Другой пример. Общеизвестно, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Хотите, я, опираясь на авторитет основателя нашей партии и государства, докажу, что прогулки на свежем воздухе лучше кино. Пожалуйста. Н. К. Крупская пишет М. А. Ульяновой из Кракова в декабре 1913 года: «…у нас есть тут партии “синемистов” (любителей ходить в синема), “антисинемистов”… и партия “прогулистов”, ладящих всегда убежать на прогулку. Володя решительный антисинемист и отчаянный прогулист…» Не правда ли, довольно убедительно? И пусть потом историки разъясняют, что в телефонограмме сказалось вполне конкретное раздражение Ленина по вполне конкретному поводу. В той же телефонограмме далее следует: «Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте»… Что же касается партии «прогулистов», то это просто шутка, о чем Н. К. Крупская сама и пишет: «Мы тут шутим, что у нас есть тут партии “синемистов”».
Шутка. А сколько неоправданных и непоправимых поступков было совершено в догматическом раже под прикрытием цитат, надерганных только что описанным способом? Этой неизменной ссылкой на классиков как бы демонстрируется такая изумительная преданность идее, что она – преданность – изумила бы даже самих отцов идеи, явись они к нам сегодня. В их округлившихся глазах мы были бы похожи на людей, передвигающихся по суше в лодках только потому, что некогда здесь было море…
У меня вообще сложилось впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой – удобная форма освободиться от личной ответственности. Что-то вроде коллективной безответственности. Мол, если виноват, то не один, вместе с основоположником и наказывайте. Но ведь, совершая Октябрьский, как выражались в те годы, переворот, вся партия большевиков, каждый член РСДРП(б) сознательно или бессознательно брали на себя именно персональную ответственность за судьбу огромной державы, уже отпраздновавшей к тому времени свое тысячелетие. Правда, объективности ради нужно отметить: Россия в ту пору была в кризисе. А вот совсем недавно мы были в предкризисном состоянии. Значит, все-таки прогресс…
Я не насмешничаю, какие тут насмешки, если душа болит и ноет, болит, потому что видишь, как народ выставляется нерадивым исполнителем мудрых решений и указаний. Даже приходится слышать сетования: мол, люди совсем разболтались, совсем вкалывать разучились, надо, мол, усилить воспитательную работу среди трудящихся. Знаете, такой трехсотмиллионный детский сад с корпусом строгих воспитателей! Нынче эпоха узкой специализации. Физик знает физику. Искусствовед – искусство. Инженер – производство. Политик, естественно, должен знать, чего хотят его сограждане. Должен? Как бы не так! У нас выработался особый тип общественного деятеля, который знает, что люди обязаны хотеть. Замечали, наверное, как обыкновенный паренек Вася, выросший у нас на глазах, придя, скажем, на партийную работу, очень скоро начинает снисходительно поучать всех и вся. Стоит ему достичь степеней известных, он автоматически начинает «рубить» во всем, но особенно в сельском хозяйстве и искусстве. Ох, сидит, сидит еще во многих товарищ Жданов, учивший Шостаковича играть на фортепьянах!
Первый секретарь райкома все еще отвечает не перед народом, а перед первым секретарем горкома. Понаблюдайте за собой: в присутствии представителя власти лично я, например, испытываю генетическую робость, к которой еще Иоанн и Петр десницы приложили. И это вместо того, чтобы хлопнуть руководителя по плечу и спросить: «Ну, как дела, Вася? Как ты там отстаиваешь мои трудовые интересы?» Разве можно хлопнуть по плечу государство? Затопчет, как Медный всадник несчастного Евгения…
Юрий Михайлович Поляков
Публицистика Юрия Полякова, так же как и его художественная проза, всегда вызывала бурный отклик читателей и явное недовольство властей.
Прочтя эту книгу, вы сможете не только приобщиться к острой, неординарной мысли писателя, оценить его афористично-иронический стиль, но и убедиться в том, насколько в своих прогнозах и предвидениях автор опережает текущий момент. Кстати, используя в наших политических спорах некоторые словечки и выражения, мы даже не подозреваем, что попали они в современный язык из статей Юрия Полякова.
Юрий Поляков
Лезгинка на Лобном месте
Предисловие автора
Когда я был начинающим читателем, меня огорчало, что в собраниях сочинений классиков следом за любимыми произведениями идут зачем-то тома с публицистикой. «Не могу молчать!» Эх, Лев Николаевич, лучше бы помалкивал и сочинял продолжение «Войны и мира», а то ведь так и не рассказал, как Безухов стал декабристом, а Наташа поехала за ним в Сибирь. Или – Пушкин! Сколько наш гений потратил сил на газетные перепалки с Булгариным, а «Египетские ночи», отраду отроческого эротизма, так и не закончил. Жаль… Только с годами я понял, какое это увлекательное чтение – публицистика былых времен. Она доносит до нас бури и страсти минувшего, нравственные искания и политические сшибки, сотрясавшие людей, давно умерших, и страны, давно исчезнувшие с карт! Нет, это не прошлогодний снег, скорее, некогда раскаленная, а теперь застывшая лава. И ее прихотливые нагромождения странно напоминают ландшафт нашей нынешней жизни. Впрочем, ничего удивительного: проклятые вопросы и бездонные проблемы мы получили в наследство вместе с нашей землей, историей, верой, вместе с супостатами – внутренними и внешними. Прочтешь порой какое-нибудь место из «Дневника писателя», глянешь в телевизор, послушаешь очередного вольнонаемного охмурялу и ахнешь: «Ну, Федор Михайлович, ну, пророчище!»
И все же: почему поэты, прозаики, драматурги пишут статьи? Неужели они не могут свести счеты со Временем при помощи, скажем, могучей эпопеи, разительной поэмы или комедии, которую современники тут же растащат на цитаты, как олигархи растащили общенародную собственность? А ведь есть еще эпиграммы, памфлеты и антиутопии, позволяющие от души поквитаться с неудовлетворительной действительностью. Но литераторы, в том числе автор этих строк, продолжают писать статьи. Почему? А потому, что процесс художественного творчества долог, сложен, противоречив и непредсказуем. Да и само влияние художественного текста на общество неочевидно и ненадежно, напоминает скорее поддерживающую терапию или даже гомеопатию. А что делать, если требуется молниеносное врачебное вмешательство – тот же прямой массаж сердца? Ведь случаются события, от которых, как пелось в революционной песне, «кипит наш разум возмущенный», когда хочется отхлестать гнусную рожу действительности наотмашь, вывалить политикам, соотечественникам, самому себе все и сразу, пока не остыл, не забыл, не перекипел, ведь отходчив русский человек, непростительно отходчив…
Кстати, реакция общества и власти на актуальные публицистические высказывания гораздо острее и болезненнее, нежели на художественно упакованные инвективы. Иные начальники государства даже испытывают пикантное возбуждение, узнавая себя в цветистых сарказмах романиста. Но не дай бог заикнуться о том же самом в газете: старуха Цензура тут же заточит свой синий карандаш. 6 октября 1993 года «Комсомольская правда» опубликовала мою статью «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», осуждавшую расстрел Белого дома. Все антиельцинские издания были к тому времени запрещены, и моя статья оказалась единственным в открытой прессе протестом против утверждения демократии с помощью танковой пальбы по парламенту. Между прочим, стократ проклятые за жестокость большевики Учредительное собрание всего-навсего распустили. Почувствуйте разницу!
В итоге «Комсомольскую правду» тоже закрыли. Правда, на один день. Потом одумались и открыли. А меня занесли в какой-то черный список, из которого вычеркнули только при Путине. Не могу сказать, что это сильно омрачило мне жизнь, хотя, скажем, из школьной программы разом вылетели мои повести, из энциклопедий исчезла всякая информация обо мне. А «Литературная газета», где я прежде был любимым автором, закрыла передо мной редакционные двери до скончания века, точнее, до 2001 года, когда меня призвали туда главным редактором. Нет, я не жалуюсь, а хочу обратить внимание на то, что любая власть борется с инакомыслием одинаково: начинает с замалчивания, а заканчивает замачиванием.
В мае 94-го в той же «Комсомольской правде» было напечатано мое эссе «Россия накануне патриотического бума». Друзья и недруги решили, что я повредился в уме от политических треволнений. В самом деле, в то время слово «патриот» стало почти бранным, а теледикторы, если и произносили его, то с непременной брезгливой судорогой на лице. Не знаю, откуда взялась уверенность, что строить новую Россию нужно на фундаменте стойкой неприязни к Отечеству, но могу предположить: идея исходила от тех политических персонажей, которые видели в «новой России» лишь факторию для снабжения цивилизованного Запада дешевым туземным сырьем. С патриотизмом боролись так же истово и затейливо, как прежние воинствующие безбожники с религией. И так же безуспешно. Мой прогноз оказался верен: сегодня патриотизм опять в чести, государство финансирует дорогостоящие программы по воспитанию отчизнолюбия, на автомобилях развеваются георгиевские ленточки, кудрявые эстрадные попрыгунчики снова запели о русском раздолье, а те же самые теледикторы артикулируют трудное слово «патриотизм» с тяжким благоговеньем. Но почему, почему же у меня никак не исчезнет ощущение, что живу я все-таки в фактории, занимающей одну седьмую часть суши?
Когда в 97-м я впервые собрал воедино статьи, написанные в течение десяти лет и разбросанные по газетам-журналам, у меня получился своего рода невольный дневник. Именно дневник. Во-первых, я живо откликался на все значительные события и происшествия, во-вторых (это главное!), всегда был искренним в своих суждениях. А искренность в писательской публицистике встречается не так уж часто, хотя, казалось бы, именно откровенностью интересен литератор. Лукавство – это, скорее, трудовой навык политика. Впрочем, по моим наблюдениям, число профессионально неискренних писателей неуклонно растет, это, наверное, какая-то мутация, вроде клопов с запахом «Шанели». И нынче редкий столп общества или вечнолояльный деятель культуры отваживается свести в книгу и представить на суд читателя свои статьи именно в том виде, в каком они увидели свет двадцать, десять или пять лет назад. Для этого надо верить в то, что твоя деятельность не была противоречива до идиотизма или изменчива до подлости.
Я же не боюсь предстать перед читателем в изменчивом развитии, ибо заблуждался не в поисках выгоды, а если обольщался, то от бескорыстной веры в торжество справедливости и здравого смысла, который побеждает обычно в тот момент, когда башня, сложенная из нелепостей, падает на головы строителям. За минувшие два десятилетия я выпустил несколько сборников публицистики, и по названиям можно проследить, как менялись настроения, симпатии и устремления автора. Судите сами: «От империи лжи – к республике вранья», «Порнократия», «Россия в откате», «Зачем вы, мастера культуры?»… И вот теперь – «Лезгинка на лобном месте». Готовя тексты к печати, я лишь исправил ошибки, неточности и погрешности стиля, объяснимые жгучей торопливостью, но оставил в первозданном виде все прочее, хотя мне и неловко за иные тонкоголосые пророчества и наивные суждения. Зато некоторыми моими прогнозами и оценками я горжусь, как поэт гордится метафорой, такой яркой и внезапной, что соперникам по джигитовке на Пегасе остается лишь завистливо цокать языками.
И последнее замечание. Публицистика необходима писателю еще по одной причине. Статьи, точно предохранительные клапаны, позволяют литератору выпустить лишний пар – социальный гнев, ярость оскорбленной нравственности, мимолетную обиду на подлость эпохи, тоску бытовых неурядиц. Это важно, ибо настоящий художник не должен валить в свое произведение шелуху сиюминутности, он обязан отбирать осмысленные зерна жизни. Ныне появились многочисленные литераторы, которые с помощью сочинительства лечат себя от ночных кошмаров и социального уныния, но, увы, чтение их текстов мало чем отличается от визита к дантисту, подрабатывающему проктологом. Да, художник имеет право на пристрастие, но без гнева. Он должен попытаться понять всех, ведь у самого последнего негодяя есть своя правота перед Богом, а у самого нравственного человека – свои помрачения сердца. Но об этом – в моих романах, повестях, пьесах…
Август 2013 г., Переделкино
Десовестизация
Томление духа
«Я вырастал в глухое время…» – это сказано обо мне и моем поколении. Мне – тридцать три. Разберем, как говорят аппаратчики, по позициям. Десяток лет спишем на период розовощекой детской невинности. Три года совпали с перестройкой. Двадцать точнехонько укладываются в эпоху застоя. К ним, этим двум десятилетиям, очень подходит строчка из Писания «Суета и томление духа». Томление духа. Было оно, было томление духа. Была бы одна только суета – и говорить что-либо нынче посовестился бы!
Очевидно, нельзя зачеркивать целые поколения только лишь потому, что жили они в кровавые, несправедливые или вымороченные годы. Человека можно обречь на бессмысленную суету, но заставить считать свою единственную, неповторимую жизнь бессмысленной, к счастью, невозможно. Увы, именно на эту особенность людских душ всегда рассчитывают разного рода пакостники, выдающие себя за творцов истории: мол, будут людишки свои прожитые годы оправдывать и нас заодно оправдают…
Смертная чаша сталинского террора миновала мое поколение. Мы не видели физического уничтожения инакомыслящих, но мы видели другое. Вот могучий столоначальник взглянул на своего ершистого молодого подчиненного и, покачав головой, промолвил: «Товарищ не понимает…» Но это еще полбеды, хотя и ее иным хватало на всю оставшуюся жизнь. А вот если о твоих мыслях и разговорах сказано: «С душком!» – это уже настоящая беда. О, эти деятели с чуткими политическими носами! Скольким моим ровесникам они сломали хребты!
Это в моем поколении появились бичи с высшим философским образованием и со своим собственным, никому не нужным взглядом на мироздание. Это в моем поколении появились воины-интернационалисты, которые сегодня вынуждены оправдываться, что недаром проливали кровь на чужой земле, хотя оправдываться должны не они, а те, кто их посылал. Это в моем поколении появились рабочие парни, проникающиеся чувством пролетарской солидарности только в очередях за водкой. Это в моем поколении начался исход творческой молодежи в дворники и сторожа. Это в моем поколении явились миру инженеры-шабашники, которые, перекуривая на кирпичах возле недостроенной фермы, спорили о вполне реалистических, но совершенно нереальных тогда планах перестройки экономики. Это в моем поколении завелись преуспевающие функционеры, те, что, отдремав в очередном президиуме и воротившись домой, любили перед сном перечитать избранные места из ксерокопированного Оруэлла, приговаривая: «Во дает, вражина! Один к одному…»
Тем временем социализм становился все более развитым, а единственный привилегированный класс – дети – все более заторможенным. Все эти годы бессмысленно расходовались не только природные богатства страны, но и духовные ресурсы нации. Хочется верить, что второе, в отличие от первого, восстановимо.
А. Блок писал некогда о «тайной свободе». Применительно к моему поколению я бы говорил о «кухонной свободе». Ведь сознаемся: многое из того, о чем пишут сегодня газеты и журналы, было нам известно и служило издавна предметом горячих кухонных споров. Генералиссимус никогда не был для нас великим стратегом, Раскольников и Чаянов никогда не были преступниками, Жданов никогда не был выдающимся «организатором культурной жизни страны», коллективизация никогда не была «героической страницей истории социалистического строительства». Если б мы ничего этого не ведали, то у нас сейчас была бы не Гласность, а, например, Осведомленность.
Некоторые товарищи опасаются, что «чрезмерная» гласность приведет молодежь к непочтительности и даже нигилизму. Не волнуйтесь, дорогие товарищи! Гласность воспитывает именно уважение к устоям, а непочтительность происходит от той закамуфлированной под передовую идеологию белиберды, которой с лихвой хлебнуло мое поколение. Поэтому, наверное, отличительная черта моего ровесника – ирония. А что вы хотите, если любой доклад тогдашнего пятизвездочного лидера по содержанию и исполнению был смешнее всякого Жванецкого?!
Блистательный щит иронии! Мы закрывались им, когда на нас обрушивались грязепады выспренного вранья, и, может быть, поэтому не окаменели.
Со временем, думаю, выйдут в свет сборники анекдотов и черного юмора – свидетельства горького народного оптимизма. Надеюсь, что они собраны, по крайней мере, компетентными органами, и мы убедимся, с каким мужеством и блеском люди отстаивали свое право не верить в директивную ложь, не любить придуманных героев, не восхищаться несуществующими победами… Я даже вижу будущую монографию о том, почему трилогию «Малая Земля» – «Возрождение» – «Целина» народ гениально окрестил «Майн кайф»…
Еще со школы помню: загнивавшей дворянской молодежи была свойственна «вселенская скорбь». Мое поколение страдает «вселенской иронией». Но ведь энергия духа, ушедшая на разрушение миражей, могла пойти на созидание! Ирония вполне может быть мировоззрением отдельных граждан, деятелей культуры, даже ответработников (кстати, среди них я чаще всего встречал ироничных людей). Но ирония не может быть мировоззрением народа! Она не созидательна. Не потому ли у нас сталкиваются или горят пароходы, сходят с рельсов поезда, заливаются недавно принятые комиссией дома, что живем точно невсерьез? Хирург не должен с инфернальной улыбочкой залезать к нам во внутренности, учитель не имеет права с двусмысленной усмешкой внушать идеалы, в которые сам не верит, офицеру негоже, видя, как бессильно извивается на перекладине доходяга-призывник, цедить с ухмылкой: «Вот ЧМО, что от него ждать»… ЧМО – это человек Московской области. Научно выражаясь, аббревиатура.
Общество жалуется, что выросло поколение с несерьезным отношением к труду, к окружающим людям, к прошлому… А если вознаграждение за труд дает человеку лишь бескрайние возможности вставать в любую очередь за любым выброшенным в торговую сеть дефицитом? А если ближний твой воспринимается прежде всего как конкурент в трудном деле обретения этого самого дефицита, и, может быть, именно поэтому люди разучились улыбаться друг другу? А если в системе сервиса на одну условную единицу услуг мы получаем десять единиц безусловного хамства? А если диалектический закон отрицания состоит прежде всего в том, что каждый вновь назначенный столоначальник полностью отрицает своего предшественника, снятого с должности и строго наказанного персональной пенсией всесоюзного значения? Откуда взяться серьезному отношению?!
Вы когда-нибудь видели, скажем, в обкоме партии портреты первых секретарей, допустим, за последние пятьдесят лет? Чтобы висели в хронологическом порядке, с указанием заслуг и промахов. Если снят – за что? Если повышен – почему? Лично я таких галерей ни в обкомах, ни в горкомах, ни в райкомах не видел. Может быть, боимся: вывесим их всех рядком-ладком и получится что-то вроде истории города Глупова…
Впрочем, если говорить без иронии, корни этой безликой истории уходят гораздо глубже. Сколько десятилетий вся предшествующая философия толковалась только как постамент под скульптурную группу – «Маркс и Энгельс читают первый номер “Новой рейнской газеты”», вся предшествующая литература – как пробы пера в поисках метода социалистического реализма, вся предшествующая история – как учебные стрельбы перед залпом «Авроры». Гуманитарное образование, полученное моими сверстниками в вузе, можно назвать образованием, лишь не выезжая за пределы Отчизны. Та же ситуация, что и с рублем.
Ладно, бог с ними, с этими излишествами! Но уж историю нашей революции, которая потрясла мир, мы учили как следует! Три этапа освободительного движения в России знаем как «Отче наш». Впрочем, кто ныне знает «Отче наш»…
Да, нам смутно ведомо, что в третьем этапе освободительного движения, ради которого, собственно, декабристы и будили Герцена, кроме большевиков, участвовали еще какие-то партии. Что знает о них мой ровесник, не занимавшийся этим вопросом специально? Знает примерно следующее. Анархисты – заговорщики. Лохматые, бородатые, с тягой к уголовщине. Черное знамя с черепушкой. Требовали, дураки, отменить государство, совершенно не соображая, кто же будет присылать конную милицию, когда народ после матча прет со стадиона. Эсеры (правые) – заговорщики. Косой пробор, рука засунута за борт френча. У их лидера были «глаза бонапартьи», и он бежал от гнева народных масс, переодевшись в женское платье. Не поняли исторических слов знаменитого матроса: «Господа, расходитесь, караул устал!» – и почему-то не могли смириться с роспуском Учредительного собрания, где имели большинство. Меньшевики – заговорщики. Вот он, маленький, суетливый меньшевик выступает на митинге и поначалу даже несколько сбивает отдельных рабочих с толку, но потом на грузовик влезает большевик, передает массам привет от товарища Ленина и под свист и улюлюканье выгоняет оппортуниста с митинга. Эсеры (левые) – заговорщики. Сначала дружили с большевиками. Потом послали некоего Блюмкина убивать посла Мирбаха, а сами тем временем подняли мятеж. Посол убит, мятеж подавлен, партия левых эсеров распущена, а Блюмкин продолжал служить победившему народу на приличных должностях (вплоть до расстрела).
Мой ровесник с высшим образованием, знающий о политической жизни России больше, может с чистой совестью бросить в меня идейно выверенный камень!
А ведь я даже не говорю о каких-то там кадетах, которые, повязавшись салфетками, неопрятно жрут цыплят, пьют шампанское, заглядывают под юбки танцоркам кордебалета и рассуждают исключительно про Босфор и Дарданеллы. А их лидера так и прозвали – Милюков-Дарданелльский. Разумеется, заговорщики…
Велика ли честь переиграть в политической борьбе таких дебилов? Кого в конце концов дурачим? Кого унижаем – их, бывших, или нас, настоящих? Почему ярлыки, приклеенные тогда, в запале борьбы за власть, до сих пор приводятся как бездонные в своей историко-философской глубине оценки? Наконец признали, что сокрытие фактов и реалий нашего прошлого нанесло серьезный урон историческому сознанию народа. Но еще больший урон, по-моему, нанесло одурачивание истории или, если хотите, одурачивание историей.
Нынче любят говорить: у истории не бывает сослагательного наклонения. Не знаю, возможно, оно и так, но это никоим образом не должно мешать разбираться в давних аргументах наших соотечественников, придерживавшихся иных взглядов на будущее России и исповедовавших иные социальные теории. Это необходимо сделать, даже если бы наш путь в последние семьдесят лет был усыпан лепестками роз. В этом – вежливость потомков. Но путь-то был усеян не лепестками…
Конечно, проще и легче списать все наши послереволюционные неприятности на ужасный характер генералиссимуса, но поверьте, «задумчивые внуки», восстанавливая старательно порванную нами связь времен, однажды полюбопытствуют: а нет ли какой-нибудь связи между героическим матросом, заботящимся об уставшем карауле, и генсеком, прицеливающимся в делегатов XVII партсъезда из подаренной винтовочки?
Может быть, полезно задать себе вопрос: почему Гражданская война, отгороженная от нас бедами и победами Великой Отечественной, до сих пор не изглаживается из народной памяти? Не потому ли, что от той братоубийственной войны повелось беспощадное разделение на «чужих» и «своих»? На своих, ради которых можно, не задумываясь, отдать жизнь, и на чужих, которых, не задумываясь, нужно лишить жизни. И не это ли разделение стало впоследствии нравственной основой сталинских преступлений и изумительного народного единодушия: «Убить, как бешеных собак!».
Мог ли вчерашний южноуральский партизан поверить, что Блюхер – враг и японский шпион? Мог ли вчерашний делегат III съезда комсомола, где блестяще выступал и Н. И. Бухарин, поверить, что он – враг и бог знает чей шпион? Отвечу: мог! Мог, если отец двумя десятилетиями раньше мог убить сына, пошедшего с красными. Мог, если женщина могла застрелить своего единственного синеглазого за то, что он остался верен Белому делу. Перечитайте «Родинку» М. Шолохова и «Сорок первый» Б. Лавренева. Эти книги не запрещались, из библиотек не изымались. Человек переводился в разряд классовых врагов и сразу переставал быть человеком. Сначала врагом объявляется тот, кто против нас, потом тот, кто не с нами, потом тот, кто не поспевает за нами, потом тот, кто справа или слева… и так до бесконечности. Нетерпение всегда идет рука об руку с нетерпимостью. Именно это испугало в революции многих русских писателей, но еще совсем недавно их точка зрения квалифицировалась как «мелкобуржуазный гуманизм».
Из террора, какого бы цвета он ни был, народ не выходит обновленным, а только – ожесточенным. Жестокость, какой бы социальной демагогией она ни оправдывалась, остается жестокостью. И еще неизвестно, что от чего больше зависит – средства от цели или цель от средств, с помощью которых она достигается. Нет, я не клоню снова к сослагательному «бы» в истории. Я просто-напросто думаю о том, что даже единственно правильное в конкретно исторической ситуации решение порой может быть причиной будущих бед и трудностей.
Возьмем тот же комсомол. Уже на одном из первых съездов делегаты постановили распустить организации бойскаутов и юных коммунистов как чуждые истинному пролетарскому движению, считая, что комсомол один справится с молодежью. Возможно, тогда это было верным тактическим решением, но в результате сегодня семидесятилетний ВЛКСМ только учится общаться с неформальными объединениями молодежи, только разворачивается к конкретному молодому человеку, скрипя всеми своими структурами и сочленениями. И это понятно: трудно из министерства по делам молодежи, каковым комсомол обязывали быть многие десятилетия, взять и превратиться в боевую, живую, ищущую (ну и так далее) организацию. Тем более что нынешние партийные кураторы суть лучшие представители и воспитанники этого самого министерского комсомола.
Кстати, занимаясь историей комсомола, я совсем недавно смог на своем опыте убедиться, насколько широко распахнуты двери архивов и документохранилищ. Захотел почитать стенограмму того печально знаменитого пленума Цекамола, на котором решалась судьба А. Косарева и его сотоварищей. Выправил бумагу в ЦК ВЛКСМ, пришел в Центральный архив ЦК ВЛКСМ и как кандидат в члены ЦК ВЛКСМ попросил: дайте почитать. А один архивный руководитель мне и говорит: «Вы бы лучше почитали мой материал в “Комсомольской правде”. Что можно – там все есть…» Это называется, попил из реки по имени «факт». Что ж, продавца универмага мы узнаем по импортно-разымпортной упаковке, а архивариуса, видимо, по имеющимся у него в распоряжении дефицитным историческим сведениям. А ведь доступность информации – необходимое условие раскрепощения личности.
Есть у нас и еще одна беда, препятствующая раскрепощению личности. Это заштампованность сознания. Вот я, сравнительно молодой человек, садясь за доклад, допустим к профсоюзному собранию, волей-неволей начинаю его материалами съезда, в середочку вставляю цитату из В. И. Ленина, а заканчиваю документами недавнего пленума. Словами уважаемых основоположников мы перебрасываемся, как мячиками.
Захожу на почту и читаю огромный плакат: «Без почты, телеграфа и машин социализм – пустейшая фраза. Ленин». Про «плюс электрификацию», каковой увешаны все наши ГЭС, ГРЭС и АЭС, я просто не говорю. Вывелся целый вид деятелей, которые, составив обширную картотеку из цитат классиков, могут с их помощью доказать что угодно.
Не верите? Хорошо, допустим, завтра кому-то пришла в голову сумасшедшая идея закрыть все театры. Ликвидировать. Та-ак, смотрим на «Т»: Табак… Талейран… Театры… Вот, пожалуйста, из телефонограммы В. И. Ленина А. В. Луначарскому: «Все театры советую положить в гроб»…
Другой пример. Общеизвестно, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Хотите, я, опираясь на авторитет основателя нашей партии и государства, докажу, что прогулки на свежем воздухе лучше кино. Пожалуйста. Н. К. Крупская пишет М. А. Ульяновой из Кракова в декабре 1913 года: «…у нас есть тут партии “синемистов” (любителей ходить в синема), “антисинемистов”… и партия “прогулистов”, ладящих всегда убежать на прогулку. Володя решительный антисинемист и отчаянный прогулист…» Не правда ли, довольно убедительно? И пусть потом историки разъясняют, что в телефонограмме сказалось вполне конкретное раздражение Ленина по вполне конкретному поводу. В той же телефонограмме далее следует: «Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте»… Что же касается партии «прогулистов», то это просто шутка, о чем Н. К. Крупская сама и пишет: «Мы тут шутим, что у нас есть тут партии “синемистов”».
Шутка. А сколько неоправданных и непоправимых поступков было совершено в догматическом раже под прикрытием цитат, надерганных только что описанным способом? Этой неизменной ссылкой на классиков как бы демонстрируется такая изумительная преданность идее, что она – преданность – изумила бы даже самих отцов идеи, явись они к нам сегодня. В их округлившихся глазах мы были бы похожи на людей, передвигающихся по суше в лодках только потому, что некогда здесь было море…
У меня вообще сложилось впечатление, что стремление всякий раз подкрепить свой поступок цитатой – удобная форма освободиться от личной ответственности. Что-то вроде коллективной безответственности. Мол, если виноват, то не один, вместе с основоположником и наказывайте. Но ведь, совершая Октябрьский, как выражались в те годы, переворот, вся партия большевиков, каждый член РСДРП(б) сознательно или бессознательно брали на себя именно персональную ответственность за судьбу огромной державы, уже отпраздновавшей к тому времени свое тысячелетие. Правда, объективности ради нужно отметить: Россия в ту пору была в кризисе. А вот совсем недавно мы были в предкризисном состоянии. Значит, все-таки прогресс…
Я не насмешничаю, какие тут насмешки, если душа болит и ноет, болит, потому что видишь, как народ выставляется нерадивым исполнителем мудрых решений и указаний. Даже приходится слышать сетования: мол, люди совсем разболтались, совсем вкалывать разучились, надо, мол, усилить воспитательную работу среди трудящихся. Знаете, такой трехсотмиллионный детский сад с корпусом строгих воспитателей! Нынче эпоха узкой специализации. Физик знает физику. Искусствовед – искусство. Инженер – производство. Политик, естественно, должен знать, чего хотят его сограждане. Должен? Как бы не так! У нас выработался особый тип общественного деятеля, который знает, что люди обязаны хотеть. Замечали, наверное, как обыкновенный паренек Вася, выросший у нас на глазах, придя, скажем, на партийную работу, очень скоро начинает снисходительно поучать всех и вся. Стоит ему достичь степеней известных, он автоматически начинает «рубить» во всем, но особенно в сельском хозяйстве и искусстве. Ох, сидит, сидит еще во многих товарищ Жданов, учивший Шостаковича играть на фортепьянах!
Первый секретарь райкома все еще отвечает не перед народом, а перед первым секретарем горкома. Понаблюдайте за собой: в присутствии представителя власти лично я, например, испытываю генетическую робость, к которой еще Иоанн и Петр десницы приложили. И это вместо того, чтобы хлопнуть руководителя по плечу и спросить: «Ну, как дела, Вася? Как ты там отстаиваешь мои трудовые интересы?» Разве можно хлопнуть по плечу государство? Затопчет, как Медный всадник несчастного Евгения…