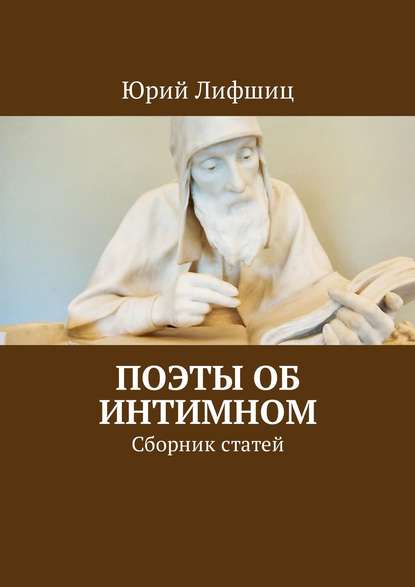По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэты об интимном. Сборник статей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой.
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже умру с тобой…».
Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.
Изумительные начальные строки продолжаются, по мнению Наума Моисеевича, откровенной декламационной невнятицей театрального толка: «Уж слишком „в духе времени“ этот многозначительный, почти загробный голос (здесь все равно – слышащийся в ветре или слышимый сквозь ветер), жалующийся на свою переменчивую и злую (то есть не жалкую все же, а только сложно-красивую) судьбу».
Тот же Блок много чего понаписал о неземной любви, вечной женственности и прочих за (бес) предельностях и так все закрутил-запутал-заморочил, что тем самым задал работу не одному поколению ученых людей. И только благодаря творческому прозрению Венедикта Ерофеева нам наконец открылся великий смысл пусть всего лишь одной – зато блоковской! – поэмы «Соловьиный сад»: «Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, бл. дки и прогулы. … Очень своевременная книга». А напрямую об этом поэт-символист написать не мог, только с помощью иносказаний. Хотя, по-видимому, очень хотелось.
Если верить фото, Александр Блок – типичный «юноша бледный со взором горящим» из брюсовского стихотворения, однако на самом деле был он мужчина в самом соку, кровь с молоком, в полном расцвете сил. Все эти декаденты, сочинявшие стихи в духе пародии Владимира Соловьева на русских символистов:
На небесах горят паникадила,
А снизу – тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле – тьма, —
так вот, все эти антихристы были за редким исключением особами крепкими, здоровыми, кряжистыми. «Да какие они декаденты! – говаривал по сему поводу Антон Чехов. – Это здоровенные мужики из арестантских рот». Слова Антона Павловича на свой лад подтверждает и Влас Дорошевич, бывший во времена оны «королем русского фельетона»: «Где декадент на виду, там беспременно в глубине сцены купец прячется. Декадент завсегда при купце состоит. Без купца декадента не бывает. … И каждый декадент, заметьте, тем кончает, что на богатой купчихе женится. Просто для молодых людей способ судьбу свою устроить».
Приведем в пример хоть Валерия Брюсова с его знаменитым венком сонетов «Роковой ряд». Поэт вспоминает всех женщин, с коими свела его судьба, юных и не очень, разнообразно услаждавших его тернистый жизненный путь сызмлада до дней последних донца. Тут бы поэту и развернуться, выдать стихи интимнее самой интимности, а на деле выходят – «царица дней былых», «отравно-ранящая услада», «огневые строфы», «стыдливые рыданья», «безвольности ночные» и прочий декадентский вздор – такими словами охарактеризовал Лев Толстой стихи Бальмонта, когда тот по неосторожности заехал к великому старцу в Ясную Поляну читать свои чуждый-чарам-черно-челночные опусы. Подтверждения наших умозаключений ради приведем один сонет из брюсовского «Рокового ряда»:
Таля
Имен любимых, памятных, живых
Так много! Но, змеей меня ужаля,
Осталась ты царицей дней былых,
Коварная и маленькая Таля.
Встречались мы средь шумов городских;
Являлась ты под складками вуаля,
Но нежно так стонала: «Милый Валя», —
Когда на миг порыв желаний тих.
Все ж ты владела полудетской страстью;
Навек меня сковать мечтала властью
Зеленых глаз… А воли жаждал я…
И я бежал, измены не тая,
Тебе с безжалостностью кинув: «Падай!»
С какой отравно-ранящей усладой!
Ничем иным, как любовной риторикой, назвать данные стихи не представляется возможным. Кстати, вместо 14 положенных женских имен в сонетном венке Брюсов привел только 13 – не сумел вспомнить всего-то одно имя из окружающих его барышень? Как известно, Валерий Яковлевич, сам родом из купеческой семьи, кончил тем, что вступил в партию большевиков. Видимо, потому что к тому времени купеческих дочек равно как и купцов с купчихами извели как потусторонний класс.
Мало кто смог в те годы удержаться от обаяния декадентщины. Среди немногих – Сергей Есенин, чьи юношеские стихи до сих пор бы пробуждали бы в мальчиках неясные желания и заставляли бы девочек краснеть от неясных желаний, кабы не интернет с телевидением и кабы нынешние девочки и мальчики вообще читали стихи.
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.
Конечно, не Сергей Александрович задал тон стихотворным славословиям в честь любви в антисанитарных условиях, но и его любовно-кустовой почин, как увидим в дальнейшем, без развития не остался.
Оказался в стороне от магистральной линии тогдашней поэзии и поэт-сатирик Саша Черный, чьи стихи по интересующему нас предмету едва ли можно назвать подлинно интимными, но спасибо хотя бы и за них.
Ошибка
Это было в провинции, в страшной глуши.
Я имел для души
Дантистку с телом белее известки и мела,
А для тела —
Модистку с удивительно нежной душой.
Десять лет пролетело.
Теперь я большой.
Так мне горько и стыдно
И жестоко обидно:
Ах, зачем прозевал я в дантистке
Прекрасное тело,
А в модистке
Удивительно нежную душу!
Так всегда: