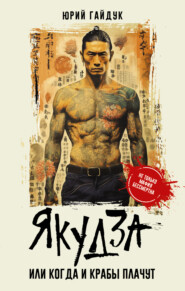По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Алмазный фонд Политбюро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пообещайте, что вы не будете предпринимать каких-либо действий по его розыску.
– Обещаю, – без особого энтузиазма выдавил из себя Мартин Андерсен и, видимо сообразив, что его слово прозвучало не очень-то авторитетно, повторил: – Обещаю. Тем более, насколько я догадываюсь, я могу тем самым помешать вам.
– Совершенно точно, – кивком головы поблагодарил его Самарин, – а насчет того второго… это был некий господин Мендель, в недалеком прошлом владелец известного на весь Петербург ломбарда.
– Мендель? – вскинул брови Андерсен. – Если я не ошибаюсь, он не только владелец ломбарда, но и довольно известный оценщик?
– Совершенно верно.
– Послушайте, но это в корне меняет дело, – вскинулся Андерсен. – А вы с ним уже беседовали?
– Намереваюсь сделать это не позже чем завтра.
– Если, конечно, он еще не эмигрировал в Европу, – подкорректировал благие намерения Самарина Мартин Андерсен, и на его лице застыла скептическая ухмылка. Мол, человек предполагает, а Бог располагает.
Глава 3
Вернувшись в остуженную февральскими ветрами квартиру, в которой он поселился летом семнадцатого года, Самарин разжег печку-«буржуйку», изогнутая труба которой выходила в верхнюю створку окна, подбросил в нее несколько колотых поленьев – всё, что осталось от разобранного неподалеку деревянного особняка, и только когда в комнате дыхнуло осязаемым теплом, позволил себе сбросить с плеч пальто. Поставил на печку черный от копоти чайник и развернул пакет, который уже на пороге посольства, со словами «примите, пожалуйста, а то обидите господина посла» вложил в его руки секретарь посольства.
Мартин Андерсен. Видимо, прекрасно понимал, что жизнь бывшего следователя Московского окружного суда в Советской России не сахар, и позволил себе преподнести ему скромный по его меркам презент.
В пакете была пачка самого настоящего чая, баночка кофе, упаковка пиленого сахара, но что самое главное – целый каравай пшеничного хлеба и не менее фунта сыра из козьего молока.
Совершенно отвыкший от подобной роскоши, Самарин, у которого иной день не было во рту даже крошки зачерствелого сухаря, растерянно смотрел на все это богатство и не знал, что делать. То ли плакать от того чувства унижения, в которое его опустили господа большевики, то ли радоваться тому, что и ему наконец-то подмигнула госпожа Удача и можно будет хоть какое-то время не ломать голову над тем, что еще можно продать из оставшихся вещей, чтобы купить на базаре полпуда полусгнившей картошки, пару луковиц да буханку квелого хлеба. Сглотнув подступивший к горлу комок, он отсыпал в объемистую алюминиевую кружку щепотку чая, залил его подоспевшим кипятком, пододвинул к буржуйке кресло, обтянутое черной кожей. Отломил от пшеничного каравая горбушку…
В отличие от квелой, замешанной на отрубях мякины, эта горбушка была непривычно мягкой, пахла давно забытым запахом «дореволюционного» хлеба, и его лицо вдруг скривила болезненная гримаса. От нахлынувших чувств хотелось плакать и смеяться одновременно.
Это было похоже на истерику изнеженной воспитанницы из пансиона благородных девиц, и он не мог дать своему состоянию объяснения.
По привычке обхватил кружку ладонями, отчего по всему телу расплылось тепло, и осторожно, так, чтобы только не обжечь губы, отпил глоток свежезаваренного чая. Наслаждаясь забытым вкусом, отпил еще один глоток и, словно испугавшись того, что при таких темпах этот божественный напиток может скоро закончиться, вернул кружку на краешек буржуйки. Не поленившись подняться и пройти к буфету из красного дерева, за стеклом которого красовался Императорский сервиз, положил хлебную горбушку на фарфоровую тарелочку и только после этого достал из кармана пальто пожелтевший, наполовину исписанный блокнот. И хотя помнил всё то, что рассказал ему Вальтер Ольхен, тот самый помощник норвежского посла, которого налетчики заставили показать, где лежат чемоданы Фаберже, а затем заставили открыть сейф, в котором был спрятан дорожный саквояж, перечитал его показания вновь.
Теперь уже не оставалось сомнений в том, что ночной налет на посольство Норвегии был заранее спланирован и бандиты были нацелены на чемоданы и саквояж Фаберже. А судя по тому, что они были осведомлены о том, что Одье в целях безопасности перевез вещи семьи Фаберже и его драгоценности в норвежское посольство, они давно следили за домом на Большой Морской.
И здесь возникало несколько вопросов, без ответа на которые невозможно было проводить дальнейшее расследование.
Первый вопрос. Кто проинформировал налетчиков о том, что Карл Фаберже отбыл в Европу практически голым, оставив своё богатство в Петрограде?
Второй вопрос. Откуда бандиты могли узнать, что часть ценностей передана руководителю Швейцарской миссии в Петрограде? Кто мог рассказать им об этой тайне, в которую были посвящены всего лишь четыре человека?
Третий вопрос, он же самый темный. Личность информатора Эдуарда Одье? Если это человек из Смольного, то кто мог посвятить его в тайну о готовящемся налете на резиденцию Швейцарской миссии? Возможно, конечно, что он работает и на бандитов, то есть выполняет роль наводчика, но в таком случае как он мог оказаться в числе информаторов господина Одье, человека, у которого за плечами более четверти века дипломатической работы и обостренный нюх на информаторов, половина из которых являются двойными агентами?
И четвертый вопрос, который также требовал ответа. Как могло случиться, что ограбление произошло в ту самую ночь, когда норвежский посол отбыл в ознакомительную командировку по Северо-западному фронту? Что это – совпадение, случайность или поэтапное выполнение заранее продуманного плана, чего также нельзя было исключать?
Будучи в прошлом следователем по особо важным делам Московского окружного суда, в послужном списке которого числился не один десяток раскрытых преступлений, Самарин не верил в случайности и совпадения, отдающие криминальным душком, и оттого невольно поморщился, осмысливая этот вопрос. И здесь вывод напрашивался сам собой. Если бандиты знали о том приглашении, которое получили норвежский посол и Эдуард Одье от Председателя Петросовета, значит, информатор был вхож в высокие кабинеты Смольного или же, что еще хуже, являлся одним из приближенных Григория Евсеевича.
От одной только мысли об этом Самарин зябко передернул плечами и, обхватив кружку ладонями, отхлебнул еще один глоток чая.
Выстраивая самые различные версии ограбления, Самарин не исключал также возможности наличия спланированного сговора бандитов с кем-то из чиновников Петросовета, от которого, возможно, и пошла утечка информации о готовящемся налете на Швейцарскую миссию. И если его выводы правильны…
Худшего варианта невозможно было и представить.
Однако, как бы там ни было, но поворачивать вспять было уже поздно. Надо было отработать оказанное ему доверие со стороны Луначарского, не говоря уж о швейцарском и норвежском дипломатах, которые видели в нем едва ли не последнюю возможность спасения своей чести в дипломатических кругах. Как признался посол Норвегии, кое-где в Европе уже поговаривают о том, что хищение бриллиантов и ювелирных изделий Фаберже не обошлось без участия дипломатов. Эдуарда Одье подозревают в том, что он избавился от чемоданов и дорожного саквояжа Фаберже, чтобы снять с себя подозрение в краже драгоценностей, а Мартина Андерсена подозревают в том, что он якобы специально импровизировал ограбление, как только бриллианты, ювелирные изделия и драгоценные камни оказались на территории посольства. Что, кстати говоря, тоже может оказаться правдой.
Наслаждаясь теплом буржуйки, которую он еще в декабре семнадцатого года заблаговременно обложил кирпичом, дабы тепло сохранялось как можно дольше, Самарин потянулся рукой за фарфоровой тарелочкой и, поддерживая ее так, чтобы на пол не упала ни одна крошка, откусил кусочек божественно вкусной горбушки, затем еще один кусочек и запил всё это несколькими глотками чая. За полтора года полуголодного существования он научился довольствоваться тем малым, что доводилось приобретать у чухонцев, и теперь, почти насытившийся и отогретый горячим чаем, мог решать самые сложные задачи. Правда, для решения поставленной перед ним задачи было слишком мало вводных, на которых можно было бы выстроить приемлемую к данному случаю версию, но кое-что все-таки удалось нарыть. И это «кое-что» не только описание чемоданов Карла Фаберже и словесные портреты налетчиков, но и те несколько кличек, которые прозвучали в стенах норвежского посольства.
Копыто, Студент и Пегас.
Как утверждает Вальтер Ольхен, на кличку Студент отзывался довольно молодой бандит с губастым, «раззявистым» ртом, а Пегасом величали бандита лет двадцати восьми, голову которого украшала шапка густых вьющихся волос и который внешне чем-то напоминал председателя Петросовета Григория Евсеевича Зиновьева. Причем на это Вальтер Ольхен также обратил внимание, Пегасом его называл бандит по кличке Копыто, а Студент – Михаилом.
Кстати, именно он, Копыто, сунул револьвер под нос Ольхена, и единственно, что смог запомнить норвежец в столь критической ситуации, так это широченную ладонь бандита, в которой словно утопал револьвер. Что еще смог восстановить он в памяти, так это то, что у Копыто из-под фуражки выбивался рыжий чуб и именно он пообещал перестрелять сотрудников посольства, если кто-нибудь из них попытается «вякать». Впрочем, как показалось Вальтеру Ольхену, Студент и Копыто были в этой банде на одном уровне, а настоящим руководителем банды был Пегас, и когда он приказал бандиту по кличке Копыто стаскивать чемоданы к пролетке, тот сначала зыркнул на него далеко не дружелюбным взглядом, однако вынужден был подчиниться.
Итак, Копыто, Студент и Пегас, от которых и надо было плясать, как от печки.
Самарин поднялся с кресла, достал из полутемного угла буфета потрепанную адресную книгу. Отер ребром ладони пыль. Он уже забыл тот день, когда доставал ее, чтобы найти тот или иной адрес, и от одной только мысли об этом на душе стало настолько муторно, что плакать захотелось. Однако плачь не плачь, но революция, которую собственными руками подготовила российская либеральная интеллигенция, свершилась, и теперь надо было радоваться хотя бы тому, что тебя не расстреляли после объявления Красного террора.
Перелистав пожелтевшие по краям страницы, Самарин наконец-то нашел адрес нужного ему человека и порадовался тому, что ему опять повезло. Его хороший знакомый, в дореволюционном прошлом заведующий сыскным столом сыскного отдела третьего участка полицейской части на Лиговке Кузьма Обухов проживал неподалеку от Обводного канала, и не надо было тащиться на окраину города, где в домишках деревянной постройки обретались младшие полицейские чины. В восемнадцатом году они были объявлены злейшими врагами народа, и мало кто из них рискнул остаться в Петрограде. Бежали кто куда смог, а те, кто остался, влачили нищенскую полуголодную жизнь. Рано поседевший на своей нелегкой службе Кузьма Иванович Обухов, которого лиговские бандиты иначе как Обухом не величали из-за его кулаков по пуду каждый, зарабатывал на жизнь тем, что оказывал услуги спекулянтам, дабы те могли более-менее спокойно делать свой гешефт. В последний раз Самарин видел его осенью восемнадцатого года, на барахолке, когда бывший следователь по особо важным делам пытался продать свой последний цивильный костюм, а общепризнанный дока сыскного дела Кузьма Обухов работал на группу чухонцев, оберегая их жизнь и кошельки от осатаневшей питерской шпаны. И это при всем при том, что Кузьма Обухов считался в сыскной полиции на особом счету, и не только потому, что в его послужном списке был не один десяток задержаний, о которых говорил весь Петербург, но еще и потому, что у него была феноменальная память на клички, лица и особые приметы преступников, которой полицейская часть на Лиговке пользовалась как своей собственной картотекой. По своей наивности Обухов решил, что и новые власти воспользуются его знанием преступного мира, однако не тут-то было. Советской власти, оказывается, не нужны были профессионалы, «запятнавшие себя службой в сыскной полиции», ей нужны были пусть и малограмотные, но идейно выдержанные кадры, и Обухов так же, как и Самарин, остался за бортом того самого «парохода», который плыл к новой жизни.
Кузьму Обухова Самарин решил навестить утром следующего дня.
* * *
Выбравшись на Моховую, Самарин не мог не отметить, что и в его жизни наконец-то началась светлая полоса. Подтверждением тому было то, что его не остановил на Невском солдатский патруль и он без особых проблем добрался до засыпанного рыхлым февральским снегом проулка, где без труда нашел вполне приличный деревянный дом, в котором обреталась семья Обухова. Поднявшись на крыльцо, постучал в обшитую старым ватным одеялом дверь, которая почти тут же распахнулась, и на пороге застыла коренастая фигура хозяина дома.
Удивлению Обухова, казалось, не было предела.
– Господи… простите, Аскольд Владимирович!? – только и смог он выдавить из себя, вопросительно уставившись на гостя. Наконец до него все-таки дошло, что перед ним действительно стоит Самарин, и, обнажив в широченной улыбке все тридцать два зуба, шагнул навстречу: – Вот уж кого не ожидал увидеть, так это вас! Дорогому гостю мы всегда рады.
Облапив Самарина как старого доброго знакомого, Обухов чуток отстранился и басовито произнес:
– Да чего же это мы здесь стоим, как нехристи? Прошу в дом.
И уже в сенях, помогая Самарину раздеться, крикнул в открытую дверь:
– Матрена, встречай дорогого гостя.
На пороге чистенько убранной комнаты, в красном углу которой висели потемневшие иконы с лампадками, застыла невысокая, немного располневшая женщина с тяжелой косой на голове, и Обухов представил жене гостя:
– Аскольд Владимирович Самарин, следователь по особо важным делам. Прошу любить и жаловать. Я тебе о нем много рассказывал.
– Это точно, – подтвердила Матрена, – много доброго наслышана. – И улыбнулась, слегка склонив в поклоне голову.
Самарин уже не помнил, когда в последний раз слышал о себе подобное, и даже закашлялся невольно.
– Я о вас, конечно, меньше наслышан, – откашлявшись, произнес он, – мы с Кузьмой Ивановичем больше о преступниках разговоры разговаривали, но вкус тех пирожков с ливером, которые вы своему супругу в сумку закладывали, до сих пор помню. С тех самых пор ничего подобного не пробовал.
– Так вот и попробуете! – всплеснула пухлыми руками Матрена. – Я вчера два противня напекла. Правда, не с ливером и не с грибами, – вздохнула она, – те грибы, что по осени удалось насобирать, уже кончились, а насчет ливера сами знаете каково по нынешним временам. Сейчас и гнилушке картофельной радуешься. То шанежки из нее напечешь, то для пирожков начинку сотворишь, если, конечно, нашему кормильцу мучицы удается в дом принести, однако, мальцы и тому и другому рады.
Два белобрысых «мальца» трех и пяти лет, внучата Обуховых, таращились на гостя в щель полуприкрытой двери, и Самарин только сейчас вспомнил о том гостинце, который им принес. Достал из кармана пиджака пакет с пиленым сахаром, который презентовал посол Норвегии, и протянул его наследникам Обухова. Те сразу же распахнули дверь и нарисовались во всей своей красе в горнице. Без штанов – в доме было довольно тепло, но зато в поддевках на ватине.