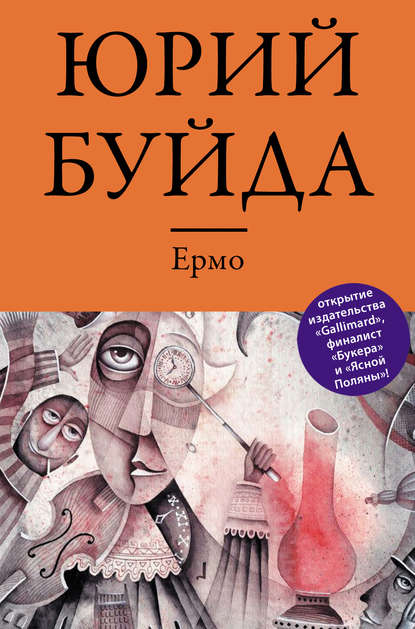По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ермо
Юрий Васильевич Буйда
Кто такой Джордж Ермо? Всемирно известный писатель-эмигрант с бурной и таинственной биографией. Он моложе Владимира Набокова и старше Георгия Эфрона. Он – «недостающее звено» в блестящей цепи, последний из великих русских эмигрантских писателей.
А еще его никогда не существовало на свете…
Один из самых потрясающих романов Юрия Буйды, в котором автор предстает не просто писателем, но магом, изменяющим саму действительность!
Юрий Буйда
Ермо
«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворялись золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, звездами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и под многоголосое пенье фанфар, под звуки, стынущие у губ музыкантов серебряными цветами, из-под гулкой арки выезжал запряженный шестерней экипаж – огромная пузатая карета на высоких колесах, обросшая жемчужно сверкающей пылью, вьющейся, свисающей и волочащейся по мостовой, со стариком в лиловом бархате и черных мехах, в маске без рта, но с прорезями-полумесяцами для глаз, – его желтая пергаментная ладонь всплывала, как рыбка, из темной глубины кареты, чтобы благословить восхитительный призрак города, захваченного карнавалом, благословить всю эту сырость и кукольность, голубей на Пьяцце, узкие улочки-calli и ладончатые площади-campi, туристов, гондольеров, готовящихся к карнавальной регате, муранское стекло и смиренный ураган растительности в церкви Santa Maria della Salute, буйство цветного мрамора, змеевика и порфира, роскошных женщин в мужских костюмах от Николао и бесполых юнцов в многоэтажных дамских платьях с ромбовидными разрезами – «адскими окнами» – на крутых боках, полицейских и герольдов, сопровождавших карету на широкозадых ганноверских лошадях, стариков в брыжах и старух в масках-мотта, – его пергаментная ладонь, благословляла карнавал, людей, из которых никто не знал, куда направляется сверкающий пылью экипаж в сопровождении герольдов, облаченных в лазоревые ливреи с гербами на груди и спине…
Герольдов отпускали задолго до поворота к маленькой пристаньке, у которой ждал белый катер с полощущимся на ветру флагом, украшенным гербом – святой Георгий, белый конь, тонкое копье, извивающийся змий с уродливыми крылышками.
Катер доставлял старика на остров, где в доме за высокой оградой, сложенной из синеватых и темно-розовых валунов, его ждала безумная королева, согревающая костлявую задницу на парчовых подушках в кресле под балдахином, с которого свисали сотни стеклярусных нитей, унизанных крошечными колокольчиками, – при малейшем движении эта птичья клетка на колесах дрожала, звенела и пела, словно пытаясь перекрыть варварское tutti труб и чарующее пенье перламутровой лютни, встречающее мужа королевы – старика в лиловом бархате и черных мехах, в золотой безротой маске с прорезями-полумесяцами для татарских его глаз.
Два часа они молчали, разделенные белым столиком, на котором в узких бутылках стыло вино и в вазе пузырился виноград. Из широкого лилового рукава выезжала жестковатая трубка манжеты, сколотой платиновой запонкой с масонским символом, а из манжеты – костлявая желтая рука с ровно обрезанными голубоватыми ногтями, тянувшаяся к винограду.
Два часа они молчали на одном языке, молчали о былой любви, о сыне – о прошлом, которое, увы, давно стало их будущим.
Наконец являлся ее ангел-хранитель в белом халате и увозил больную в палату: пора было кушать кашку или глотать таблетки.
Старик возвращался на катер.
Его геометрически правильное лицо с прямыми бровями и гладко выбритым подбородком, выступавшим вперед и круглым, как бильярдный шар, слегка краснело на ветру. Автомобиль ждал его на плохо освещенной стоянке возле пристаньки. Швырнув маску на сиденье, он захлопывал дверцу и устало смеживал веки.
Неузнанный и вымотанный, он возвращался домой, чтобы поудобнее устроиться в долгом кресле – ноги заботливо укрыты толстым пледом, на столике под рукой бренди, печенье и минеральная вода – и вообразить, что он спит, что боль в распухших коленях мучает не его, а вон того старика в зеркале.
Бренди, печенье, минеральная вода – немного же нужно старику, чтобы пережить еще одну ночь, населенную призраками. Иногда ему казалось, что он спит, но в лучшем случае это был самообман, профессиональная игра воображения – бессмысленная, как шахматы или бритье, – бессмысленная, как Венеция, бредящая красотой и странно напоминающая о туманном Севере, где такой же город среди болот и каналов, со всадником-победоносцем, попирающим змия, бредит величием, – однажды под лучами солнца растают эти водопады, разлетится этот туман, уйдет кверху, и уйдут вместе с ним эти гнилые, склизлые города – сила, выродившаяся в красоту, – исчезнут, оставив по себе головную боль и тоску…»
В своей последней книге «Als Ob» («Как если бы») – а приведенная выше пространная цитата именно из нее – Джордж Ермо вновь обращается к излюбленной теме, которую он начал разрабатывать еще в первом своем произведении – романе «Лжец» («You story!»): иллюзорность, выморочность, межеумочность человеческого существования в мире, где сон и явь той же природы, что и человеческая жизнь. Писателя всегда занимала проблема соотношения вымысла и реальности, искусства и действительности, и хотя в последние годы он не раз говорил с нескрываемым раздражением, что «как багаж коммивояжера невозможно представить без зубной щетки и дюжины презервативов, так современную литературу – без зеркал, шахмат, лабиринтов, часов и сновидений», его самого игра ума притягивала с такой же силой, что и память сердца.
Объяснение этому факту исследователи ищут в биографии писателя, русского по происхождению, американца по воспитанию и, по его собственным словам, «венецианца скорее по мироощущению, нежели по месту жительства».
Главный герой романа «Лжец» – Юджин Форд, с детства прикованный к инвалидному креслу, лишен возможности активно участвовать в жизни и всю силу своего незаурядного творческого дара направляет на перевоссоздание своего внутреннего мира.
Тягучий, растительный, унылый быт захолустного американского городка, по глубокому убеждению Юджина, на самом деле таит такие бездны и высоты духа, такие загадки, сулит такие открытия, которые и не снились миллионным городам с их вывернутой наизнанку жизнью. Связи, которые устанавливает Юджин между событиями, изредка случающимися в этом Blind Alley (село Блины Съедены, если искать русский аналог), удивляют, смешат, а иногда и пугают обывателей. Подружка по детским играм, милая тихоня Эмили по окончании школы уезжает на поиски счастья в большой город, где устраивается сиделкой в богадельне. В письмах к Юджину она старательно живописует свою монотонную нью-йоркскую жизнь, маленькие радости (выиграла в лотерею пять долларов) и маленькие огорчения (украли туфли, которые она так берегла и надевала лишь однажды – на благотворительном балу у пожарных); она познакомилась с парнем, он предложил ей интересную и неплохо оплачиваемую работу… Письма от Эмили приходят все реже, они полны недоговоренностей и странных обмолвок, невнятной тоски и страстных обещаний – приехать, приехать, снова увидеть дорогого, единственного, любимого Юджина.
Постепенно читателю становится ясно, что девушка ведет двойную жизнь: днем ухаживает за немощными стариками в приюте, вечера посвящает проституции. Юджин же словно не замечает этого, повергая в ужас тетушку, которая преданно ухаживает за калекой и давно догадалась о том, что произошло с крошкой Эмили, чья душа, похоже, не выдержала самого страшного испытания, выпадающего человеку, – испытания обыденностью.
Перечитывая письма Эмили, Юджин замечает: «Каким мощным и богатым воображением нужно обладать, чтобы жить такой жизнью, как Эмили, а в письмах писать о ней так заурядно!» Бедняга Юджин твердо убежден в том, что Эмили похищена пиратами, более того, стала своей среди них, подругой главаря, подносящего ей на кончике кривой сабли вражеские фрегаты и покоренные приморские города. Она и сама участвует в абордажных боях, пользуясь самым страшным и неотразимым своим оружием – обнаженной грудью. С алым пиратским флагом в руках она первой спрыгивает на борт вражеского судна, разя направо и налево, – гроза и легенда Карибского моря. Ночью же, когда пиратский фрегат, мягко покачиваясь на серебристом лоне океана, мощно режет фосфоресцирующие воды, Эмили устраивается поудобнее в огромном кресле на палубе, под балдахином, когда-то принадлежавшим вице-королю, и, макая перо альбатроса в чернильницу, принимается за очередное письмо в пресную американскую глухомань, в то время как зверского вида индусы бережно обмахивают ее павлиньими опахалами, а ручной кальмар нежно обвивает щупальцами ее стройные нагие ноги, едва касаясь золотых яблок ее коленей…
Дебют молодого журналиста в качестве романиста был по достоинству оценен критиками, не оставившими камня на камне от его «претенциозного, вычурного произведения, в котором, впрочем, иногда встречаются куски, оставляющие слабую надежду на то, что когда-нибудь автор, может быть, распорядится своим дарованием более разумно».
К сожалению, рецензенты были правы, да впоследствии писатель и сам присоединился к критикам «Лжеца»: фантазии Юджина, быть может, и живописные сами по себе, кажутся стилистически неорганичными и слишком резко контрастируют с тщательно прописанными эпизодами, передающими дух американской провинции.
Автору не удалось найти верную интонацию, чтобы убедить читателя в неординарности Юджина, а потому явно искусственной оказывается и развязка романа: получив известие о смерти Эмили (она погибла в пьяной кабацкой драке, случайно напоровшись на нож), Юджин винит в ее гибели себя, поскольку именно он силой своего воображения накликал на бедную девушку такую смерть – гибель от удара пиратским ножом под левую грудь. Будучи не в силах справиться с языком, писатель поступает самым простым и самым проигрышным образом: заимствует стиль и лексику у полумертвых эпигонов романтизма.
Важно, однако, обратить внимание на те характеры, идеи и методы, которые впоследствии окажутся плодотворными для Ермо: во-первых, это образ Юджина, живущего лишь воображением; во-вторых, это смутно проступающая сквозь ткань ученической прозы идея иллюзорности бытия, игры, вымысла, способного поспорить с реальностью; наконец, любопытен, так сказать, методологический прием, к которому прибегает Юджин, комментируя письма Эмили: он не предполагает, а уверен, он знает, что жизнь Эмили именно такова, какой она кажется ему, – реальность фантастична, и в страхе перед непредсказуемой силой этой магии жизни люди пытаются снизить ее до себя, «обытовить», наконец, уничтожить. Грубо говоря, ложны не истории, которые рассказывает Юджин, – ложна сама история, реальность. Платоновская небесная Истина входит частями, деталями в иллюзорную действительность, которую принято считать реальностью, – каплями дождя, обрывком сновидения, шепотом или громом, но все никак не складывается в целостный, завершенный образ. Можно подумать, что Ермо читал Платона с томиком Уайтхеда в руках, – и в критике уже высказывалось подобное предположение, – хотя писатель никогда не скрывал своего отвращения к систематическим занятиям философией.
Сегодня резкость первых критиков «Лжеца» («наверное, о шизофрении можно написать и интереснее», «чтобы выдуть из этого безобразного кома прекрасную вазу, нужно быть гениальным стеклодувом») представляется нам чрезмерной: иногда между романом и читателем возникает вибрирующая связь – благодаря необъяснимым перекличкам, многочисленным эхо, неожиданным отражениям – лица в лице, реальности в вымысле и наоборот, слова в слове, – хотя в целом и сегодня уже никто не спорит с тем, что «Лжеца» трудно отнести к удачам писателя. Он еще не овладел магией ремесла, позволяющей из крысы, перца и лепестка розы сварить волшебный напиток искусства.
Впрочем, и критикам, и читателям вскоре стало не до изящной словесности: через семь месяцев после выхода в свет «Лжеца» началась Вторая мировая война, а появление единственной сочувственной рецензии, принадлежавшей Малькольму Спенсеру, совпало с японской бомбардировкой Пирл-Харбора, – о романе естественно и благополучно забыли.
Джордж Ермо, собственно Георгий Ермо-Николаев, родился 29 августа 1914 года в Санкт-Петербурге, еще не переименованном из патриотических побуждений в Петроград, но уже переживавшем потрясения Первой мировой войны. Родился в городе, который часто называют северной Венецией, и прожил почти полвека в Венеции настоящей, – так что мы с полным правом можем сказать, что тема зеркальности вошла сначала в его жизнь, а уж потом – в творчество.
Отец его, происходивший из старинной знатной семьи (а родовой чертой русского писателя является, по замечанию Пушкина, шестисотлетнее дворянство), был известным инженером и ученым. Вскоре после рождения сына ему по поручению правительства пришлось отправиться в Англию, где он представлял русские интересы, связанные с военной промышленностью, а именно с поставками для русской армии. Кроме того, Михаил Ермо-Николаев читал лекции в университете, консультировал коллег из британских военно-инженерных ведомств, не забывая при этом и о бизнесе: он был владельцем и совладельцем ряда строительных фирм, занимавшихся возведением мостов, дамб, плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений.
О матери Джорджа Ермо нам известно мало. Она происходила из захудалого дворянского рода Мотовиловых, получила приличное домашнее образование, готовилась стать актрисой, чему помешали два обстоятельства – расстроенное здоровье и случайная встреча с Михаилом Ермо-Николаевым на лекции Брюсова в университете Шанявского в Москве. По отзывам друзей и знакомых, Лидия Николаевна не была ни красавицей, ни умницей. Страстная, увлекающаяся натура, она отличалась склонностью к пустой мечтательности и приступами глубокой меланхолии, которые подчас завершались помещением больной в одну частную психиатрическую клинику. В конце концов молодая женщина, оставшаяся с сыном во взбаламученной войной и революцией России, не выдержала выпавших на ее долю испытаний. Выехав при содействии друзей в Финляндию, а оттуда – в Берлин, она слегла окончательно. Ермо-Николаев с трудом перевез ее и сына в Лондон, в богатую блумсберийскую квартиру, а вскоре перебрался с ребенком в Северо-Американские Соединенные Штаты. Лидия же Николаевна была оставлена в Англии, в клинике Распберри-Хилл, неподалеку от Брайдхеда, где и умерла в 1952 году, пережив мужа, скоропостижно скончавшегося пятью годами ранее. Отношения отца и матери – темная страница биографии Ермо.
Его первый биограф Федерик де Лонго утверждает, что Джордж Ермо встречался с Лидией Николаевной, нарочно приехав для этого в Англию, – но она не узнала его. Однако сам писатель уклонялся от прямых ответов, когда речь заходила о матери.
Полубезумная вспыльчивая мать Генри Слейтона из «Говорящих людей», «вечно не находящая себе места, в неряшливом халате с карманами, в которых непрестанно позвякивали пузырьки и флаконы с лекарствами – она принимала их не глядя, помногу, но без удовольствия, – с крупным белым носом, украшенным красными пятнышками от пенсне», – быть может, ее образ навеян детскими воспоминаниями о Лидии Николаевне, пугавшей малыша Белым Карликом и панически боявшейся зеркал: цыганка предсказала, что в зеркале ей суждено встретиться со своею смертью.
Джордж Ермо-Николаев не считал себя русским писателем, да и русским-то был, по его словам, «условным», хотя и был крещен по греческому обряду в джорджвиллской Свято-Владимирской церкви. В отличие от Бунина и Набокова, рядом с которыми его чаще всего ставят, он не вывез из России почти никаких воспоминаний и впечатлений – ни запаха горькой брянской полыни, полонившей межи, ни заупокойной графики церковных куполов на белесой плоскости зимних небес, ни неубранных крестцов ржей, ни первой любви, ни легкого дыхания, ни солнечного удара, ни сладкого детского страха перед полуденным выстрелом петропавловской пушки – словом, ничего такого, что могло бы называться его Россией. Три-четыре сохранившихся в памяти образа ну никак не складывались в картину: шелестящая и мятущаяся под ветром тень сирени на твердой от жары глинистой дорожке, ярко-серебряное блюдо озера с черной лодкой посередине и черными же елками вокруг, празднично-желтый цыпленок, осторожно обходящий тарелку с сизовато-алой малиной, огромный матушкин нос, оседланный пенсне и являвшийся Белым Карликом по его душу в страшных сновидениях… Вот, пожалуй, и все, если, конечно, Ермо-Николаев был искренен в беседах с биографами и журналистами.
У него была своя holy land, где всегда мощно высятся ильмы, где еще можно отыскать красоту, покой и определенность, где всегда высоки травы, недвижима стрелка часов на церкви и к чаю по-прежнему подают мед, – его Овстугом, его Гранчестером стал новостроенный городок Нью-Сэйлем в Новой Англии, куда он возвращался после университета, после войны в Испании, после краха первого брака, после поражения союзников во Франции и где приводил в порядок свои мысли и чувства, где, наконец, он проводил в последний путь отца, дядю и тетушку Лизавету Никитичну, заменившую ему мать.
Вот они все вместе, запечатленные фотографом-любителем на лужайке перед домом, за длинным белым столом. Снимок датируется весной 1938 года. Джордж уже вернулся из Испании, откуда почти год передавал репортажи для «Northern Atlantic Review», и в два с половиной месяца завершил работу над своим первым романом.
Крайний слева, щегольски одетый господин с геометрически правильным лицом и тонкими усиками, придающими ему фатоватый вид, с огромной сигарой в зубах, – Михаил Ермо-Николаев. Его имя называлось в ряду с именами Тимошенко, Зворыкина, Сикорского – гордостью американской науки и промышленности. Суховатый деловой человек, он избегал встреч с эмигрантами-компатриотами и только брезгливо морщился – на свой манер, одними губами, – если при нем заводили разговор о загадочной l’?me slave.
Рядом с ним, на стуле с высокой спинкой, его брат Николай Ермо-Николаев, генерал от кавалерии, энглизированный аристократ, который и после пятнадцатилетней жизни в САСШ предпочитал британский pavement американской pavement и, по шутливому замечанию брата, «вел родословную от коня святого Георгия, оправдывая семейный герб».
Далее на снимке – Лизавета Никитична Аблеухова, урожденная Ермо-Николаева, обладательница самой прямой спины в округе, – воспоминания об этой удивительной женщине, по его собственному признанию, согревали создателя образов Кэтрин Мур из «Путешествия в», тетушки О из «Смерти факира», других образов много переживших, но не сломленных женщин. Между нею и Джорджем – смеющаяся веснушчатая Софья Илецкая, вскоре ставшая женой молодого Ермо-Николаева, криво улыбающегося в объектив.
Даже на этом не очень четком снимке видно фамильное сходство Ермо: у всех у них удлиненные, почти цилиндрической формы головы, долготянутые лица с плоскими, параллельными друг дружке щеками и твердыми круглыми подбородками, угрожающе выступающими вперед. Мужчины поражают громоздкостью, контрастирующей с мягким женским взглядом их красивых лисьих глаз.
Ермо-старший был успешным бизнесменом, блестящим исследователем, интересным лектором. По приглашениям университетов он читал лекции студентам, по делам фирмы проводил большую часть времени в разъездах по Северной и Южной Америке, – так что мальчик редко видел отца.
Джордж рос в доме дяди, где его называли только Георгием: тетушка (а она и была настоящей хозяйкой и царицей в этом доме) не признавала ни американского имени, ни амикошонского «тыканья». Поместительный дом с английскими экономическими лестницами – девять дюймов подъем, одиннадцать – проступь, с почти идеально отлаженной жизнью, – русский дом без намека на матрешечную сусальность. Счастливое американское детство в настоящем русском доме. Свежее и чистое новоанглийское небо, цветение боярышника, клейкие птенцы в гнездах, тявканье лис, яблочный пирог и индейка, stars & stripes, Ли и Грант, взятие Ричмонда, первая сигарета и первая любовь, Рождество – и вместе с тем: пламенеющая икона с Георгием Победоносцем и змием, «Мой дядя самых честных правил», кустарный портсигар с двуглавым орлом на крышке, перстень с «еленевым» камнем, Борис и Глеб, Петр Великий, переход Суворова через Альпы, «Умом Россию не понять», Пасха…
Дядя был человеком строгим и даже, на сторонний взгляд, суховатым. Всегда истово выбритый, пахнущий кельнской водой, всегда державшийся прямо, не позволявший своим рукам ни одного лишнего движения, он был кумиром кадетов военной школы, где читал лекции и откуда за ним каждое утро присылали сначала пароконный экипаж, а потом – изящный автомобиль-ландо с красавцем негром за рулем. Весь досуг его был поглощен составлением истории кавалерии, хотя сам он говорил, что будущая война станет войной денег и моторов. Писал он ясно, твердым почерком без наклона и чиновничьих каллиграфических финтифлюшек, и любил повторять, что речь должна быть хорошо откормленной, но без сала. Домашним не возбранялось читать перебеленные куски рукописи, хранившейся в кожаной папке, но этим правом пользовался один Ермо-младший, запасавшийся печеньем и забиравшийся с ногами на огромный диван, прозывавшийся «господином Толстым», на котором так хорошо было сидеть, перекладывать листы большого формата со строго выстроенными строчками, в то время как теплый ветер колеблет желтые шторы в гостиной, выходившей окнами на жирно-зеленые, тянувшиеся чуть не до самого океана поля, там и сям прочерченные перелесками, изящные осы пляшут над блюдечком с медом, выставленным на подоконник, из кухни потягивает запахом пирога с черникой…
Джордж хрустел печеньем, следя за захватывающим приключением, в которое на протяжении тысячелетий были вовлечены миллионы людей и животных: Александр Македонский и Ганнибал, побеждавшие, пока у них было превосходство в коннице; поражение крестовых походов как следствие поражения тяжелой бронированной европейской кавалерии от маневренных азиатских всадников; шведский Густав Адольф, возродивший значение конников на поле боя; Фридрих Великий, создатель кавалерии – недосягаемого идеала; педанты от дрессуры, взявшиеся в середине девятнадцатого века ломать лошадь…
Скучнее были главы, посвященные Гражданской войне в России, хотя, судя по всему, именно ради этих страниц Николай Павлович и затеял свой труд. Он детально анализировал причины первых побед Деникина, обладавшего благодаря сильной кавалерии бесподобной маневренностью (у него на каждого пехотинца приходилось два кавалериста, тогда как у красных – один), и тактику и стратегию красных конармий, которыми так восхищался Пилсудский, – с кивком в американскую историю: генерал Стюарт блестяще продемонстрировал огромные возможности крупных кавалерийских масс, сполна использованные русскими большевиками на бескрайних плоских просторах России и Украины…
«Пока мужчины воюют или сочиняют великие романы, кто-то же должен подержать этот мир на своих плечах, сварить похлебку, сделать, наконец, так, чтобы вернувшийся домой мужчина нашел свои тапочки на привычном месте и кусок хлеба на столе. В конце концов все войны, революции, все потрясения затеваются лишь затем, чтобы тапочки оставались на привычном месте. Беда в том, что часто их надевают совсем другие люди…» – эти слова принадлежат Лизавете Никитичне Аблеуховой.
Ее мужа, известного кадетского деятеля, расстреляли в ЧК. То ли в издевку, то ли из причудливо понятого сострадания обезумевшей женщине выдали его одежду, изодранную пулями и хрустящую от высохшей крови.
Их сын служил в большевистском комиссариате, ведавшем народным просвещением, и щеголял в долгополой шинели с «разговорами» и вошедшем в моду матерчатом шлеме-«буденовке». Узнав о гибели отца, он тотчас примчался к матери, но она, парализованная горем, не смогла выйти к нему. Не прошло и часа, как за ним явились матросы с винтовками. Всеволод заперся в детской, и когда чекисты стали стрелять в дверь, ответил одним-единственным выстрелом – в себя.
Друзья и родственники помогли Лизавете Никитичне покинуть Россию. После полутора лег скитаний она добралась до Америки, где поселилась на толстовской ферме под Нью-Йорком. Там и нашли ее братья Ермо-Николаевы.
Она привезла с собою четыре чемодана, которые в пути ни разу не распаковывала. Открыла лишь в отведенной ей комнате нью-сэйлемского дома. Братья ожидали увидеть в чемоданах кузины что угодно, но только не это. В чемоданах были камзолы, мундиры, фраки, сюртуки, пиджаки, плащи, рубашки, принадлежавшие Ермо-Николаевым, – пробитые штыком французского гренадера под Лейпцигом, проколотые дуэльной шпагой, продырявленные турецкой пулей под Плевной, пахнущие духами, порохом, тюремной сыростью, случайно или нарочно хранившиеся двести лет в семейном гардеробе, – и завершали коллекцию хрустящая от высохшей крови визитка ее мужа и зияющая дырой с опаленными краями – от выстрела в упор – долгополая шинель с «разговорами», принадлежавшая ее сыну. Вот и все, что она с собой привезла. Если не считать воспоминаний, – гардероб, в котором не было ни одной дамской тряпки.
Юрий Васильевич Буйда
Кто такой Джордж Ермо? Всемирно известный писатель-эмигрант с бурной и таинственной биографией. Он моложе Владимира Набокова и старше Георгия Эфрона. Он – «недостающее звено» в блестящей цепи, последний из великих русских эмигрантских писателей.
А еще его никогда не существовало на свете…
Один из самых потрясающих романов Юрия Буйды, в котором автор предстает не просто писателем, но магом, изменяющим саму действительность!
Юрий Буйда
Ермо
«Со скрипом, с визгом и ржавым хрипом отворялись золотые ворота, украшенные роговыми пластинами с изображенными на них единорогами, звездами, драконами и прекрасными, как лошади, женщинами, и под многоголосое пенье фанфар, под звуки, стынущие у губ музыкантов серебряными цветами, из-под гулкой арки выезжал запряженный шестерней экипаж – огромная пузатая карета на высоких колесах, обросшая жемчужно сверкающей пылью, вьющейся, свисающей и волочащейся по мостовой, со стариком в лиловом бархате и черных мехах, в маске без рта, но с прорезями-полумесяцами для глаз, – его желтая пергаментная ладонь всплывала, как рыбка, из темной глубины кареты, чтобы благословить восхитительный призрак города, захваченного карнавалом, благословить всю эту сырость и кукольность, голубей на Пьяцце, узкие улочки-calli и ладончатые площади-campi, туристов, гондольеров, готовящихся к карнавальной регате, муранское стекло и смиренный ураган растительности в церкви Santa Maria della Salute, буйство цветного мрамора, змеевика и порфира, роскошных женщин в мужских костюмах от Николао и бесполых юнцов в многоэтажных дамских платьях с ромбовидными разрезами – «адскими окнами» – на крутых боках, полицейских и герольдов, сопровождавших карету на широкозадых ганноверских лошадях, стариков в брыжах и старух в масках-мотта, – его пергаментная ладонь, благословляла карнавал, людей, из которых никто не знал, куда направляется сверкающий пылью экипаж в сопровождении герольдов, облаченных в лазоревые ливреи с гербами на груди и спине…
Герольдов отпускали задолго до поворота к маленькой пристаньке, у которой ждал белый катер с полощущимся на ветру флагом, украшенным гербом – святой Георгий, белый конь, тонкое копье, извивающийся змий с уродливыми крылышками.
Катер доставлял старика на остров, где в доме за высокой оградой, сложенной из синеватых и темно-розовых валунов, его ждала безумная королева, согревающая костлявую задницу на парчовых подушках в кресле под балдахином, с которого свисали сотни стеклярусных нитей, унизанных крошечными колокольчиками, – при малейшем движении эта птичья клетка на колесах дрожала, звенела и пела, словно пытаясь перекрыть варварское tutti труб и чарующее пенье перламутровой лютни, встречающее мужа королевы – старика в лиловом бархате и черных мехах, в золотой безротой маске с прорезями-полумесяцами для татарских его глаз.
Два часа они молчали, разделенные белым столиком, на котором в узких бутылках стыло вино и в вазе пузырился виноград. Из широкого лилового рукава выезжала жестковатая трубка манжеты, сколотой платиновой запонкой с масонским символом, а из манжеты – костлявая желтая рука с ровно обрезанными голубоватыми ногтями, тянувшаяся к винограду.
Два часа они молчали на одном языке, молчали о былой любви, о сыне – о прошлом, которое, увы, давно стало их будущим.
Наконец являлся ее ангел-хранитель в белом халате и увозил больную в палату: пора было кушать кашку или глотать таблетки.
Старик возвращался на катер.
Его геометрически правильное лицо с прямыми бровями и гладко выбритым подбородком, выступавшим вперед и круглым, как бильярдный шар, слегка краснело на ветру. Автомобиль ждал его на плохо освещенной стоянке возле пристаньки. Швырнув маску на сиденье, он захлопывал дверцу и устало смеживал веки.
Неузнанный и вымотанный, он возвращался домой, чтобы поудобнее устроиться в долгом кресле – ноги заботливо укрыты толстым пледом, на столике под рукой бренди, печенье и минеральная вода – и вообразить, что он спит, что боль в распухших коленях мучает не его, а вон того старика в зеркале.
Бренди, печенье, минеральная вода – немного же нужно старику, чтобы пережить еще одну ночь, населенную призраками. Иногда ему казалось, что он спит, но в лучшем случае это был самообман, профессиональная игра воображения – бессмысленная, как шахматы или бритье, – бессмысленная, как Венеция, бредящая красотой и странно напоминающая о туманном Севере, где такой же город среди болот и каналов, со всадником-победоносцем, попирающим змия, бредит величием, – однажды под лучами солнца растают эти водопады, разлетится этот туман, уйдет кверху, и уйдут вместе с ним эти гнилые, склизлые города – сила, выродившаяся в красоту, – исчезнут, оставив по себе головную боль и тоску…»
В своей последней книге «Als Ob» («Как если бы») – а приведенная выше пространная цитата именно из нее – Джордж Ермо вновь обращается к излюбленной теме, которую он начал разрабатывать еще в первом своем произведении – романе «Лжец» («You story!»): иллюзорность, выморочность, межеумочность человеческого существования в мире, где сон и явь той же природы, что и человеческая жизнь. Писателя всегда занимала проблема соотношения вымысла и реальности, искусства и действительности, и хотя в последние годы он не раз говорил с нескрываемым раздражением, что «как багаж коммивояжера невозможно представить без зубной щетки и дюжины презервативов, так современную литературу – без зеркал, шахмат, лабиринтов, часов и сновидений», его самого игра ума притягивала с такой же силой, что и память сердца.
Объяснение этому факту исследователи ищут в биографии писателя, русского по происхождению, американца по воспитанию и, по его собственным словам, «венецианца скорее по мироощущению, нежели по месту жительства».
Главный герой романа «Лжец» – Юджин Форд, с детства прикованный к инвалидному креслу, лишен возможности активно участвовать в жизни и всю силу своего незаурядного творческого дара направляет на перевоссоздание своего внутреннего мира.
Тягучий, растительный, унылый быт захолустного американского городка, по глубокому убеждению Юджина, на самом деле таит такие бездны и высоты духа, такие загадки, сулит такие открытия, которые и не снились миллионным городам с их вывернутой наизнанку жизнью. Связи, которые устанавливает Юджин между событиями, изредка случающимися в этом Blind Alley (село Блины Съедены, если искать русский аналог), удивляют, смешат, а иногда и пугают обывателей. Подружка по детским играм, милая тихоня Эмили по окончании школы уезжает на поиски счастья в большой город, где устраивается сиделкой в богадельне. В письмах к Юджину она старательно живописует свою монотонную нью-йоркскую жизнь, маленькие радости (выиграла в лотерею пять долларов) и маленькие огорчения (украли туфли, которые она так берегла и надевала лишь однажды – на благотворительном балу у пожарных); она познакомилась с парнем, он предложил ей интересную и неплохо оплачиваемую работу… Письма от Эмили приходят все реже, они полны недоговоренностей и странных обмолвок, невнятной тоски и страстных обещаний – приехать, приехать, снова увидеть дорогого, единственного, любимого Юджина.
Постепенно читателю становится ясно, что девушка ведет двойную жизнь: днем ухаживает за немощными стариками в приюте, вечера посвящает проституции. Юджин же словно не замечает этого, повергая в ужас тетушку, которая преданно ухаживает за калекой и давно догадалась о том, что произошло с крошкой Эмили, чья душа, похоже, не выдержала самого страшного испытания, выпадающего человеку, – испытания обыденностью.
Перечитывая письма Эмили, Юджин замечает: «Каким мощным и богатым воображением нужно обладать, чтобы жить такой жизнью, как Эмили, а в письмах писать о ней так заурядно!» Бедняга Юджин твердо убежден в том, что Эмили похищена пиратами, более того, стала своей среди них, подругой главаря, подносящего ей на кончике кривой сабли вражеские фрегаты и покоренные приморские города. Она и сама участвует в абордажных боях, пользуясь самым страшным и неотразимым своим оружием – обнаженной грудью. С алым пиратским флагом в руках она первой спрыгивает на борт вражеского судна, разя направо и налево, – гроза и легенда Карибского моря. Ночью же, когда пиратский фрегат, мягко покачиваясь на серебристом лоне океана, мощно режет фосфоресцирующие воды, Эмили устраивается поудобнее в огромном кресле на палубе, под балдахином, когда-то принадлежавшим вице-королю, и, макая перо альбатроса в чернильницу, принимается за очередное письмо в пресную американскую глухомань, в то время как зверского вида индусы бережно обмахивают ее павлиньими опахалами, а ручной кальмар нежно обвивает щупальцами ее стройные нагие ноги, едва касаясь золотых яблок ее коленей…
Дебют молодого журналиста в качестве романиста был по достоинству оценен критиками, не оставившими камня на камне от его «претенциозного, вычурного произведения, в котором, впрочем, иногда встречаются куски, оставляющие слабую надежду на то, что когда-нибудь автор, может быть, распорядится своим дарованием более разумно».
К сожалению, рецензенты были правы, да впоследствии писатель и сам присоединился к критикам «Лжеца»: фантазии Юджина, быть может, и живописные сами по себе, кажутся стилистически неорганичными и слишком резко контрастируют с тщательно прописанными эпизодами, передающими дух американской провинции.
Автору не удалось найти верную интонацию, чтобы убедить читателя в неординарности Юджина, а потому явно искусственной оказывается и развязка романа: получив известие о смерти Эмили (она погибла в пьяной кабацкой драке, случайно напоровшись на нож), Юджин винит в ее гибели себя, поскольку именно он силой своего воображения накликал на бедную девушку такую смерть – гибель от удара пиратским ножом под левую грудь. Будучи не в силах справиться с языком, писатель поступает самым простым и самым проигрышным образом: заимствует стиль и лексику у полумертвых эпигонов романтизма.
Важно, однако, обратить внимание на те характеры, идеи и методы, которые впоследствии окажутся плодотворными для Ермо: во-первых, это образ Юджина, живущего лишь воображением; во-вторых, это смутно проступающая сквозь ткань ученической прозы идея иллюзорности бытия, игры, вымысла, способного поспорить с реальностью; наконец, любопытен, так сказать, методологический прием, к которому прибегает Юджин, комментируя письма Эмили: он не предполагает, а уверен, он знает, что жизнь Эмили именно такова, какой она кажется ему, – реальность фантастична, и в страхе перед непредсказуемой силой этой магии жизни люди пытаются снизить ее до себя, «обытовить», наконец, уничтожить. Грубо говоря, ложны не истории, которые рассказывает Юджин, – ложна сама история, реальность. Платоновская небесная Истина входит частями, деталями в иллюзорную действительность, которую принято считать реальностью, – каплями дождя, обрывком сновидения, шепотом или громом, но все никак не складывается в целостный, завершенный образ. Можно подумать, что Ермо читал Платона с томиком Уайтхеда в руках, – и в критике уже высказывалось подобное предположение, – хотя писатель никогда не скрывал своего отвращения к систематическим занятиям философией.
Сегодня резкость первых критиков «Лжеца» («наверное, о шизофрении можно написать и интереснее», «чтобы выдуть из этого безобразного кома прекрасную вазу, нужно быть гениальным стеклодувом») представляется нам чрезмерной: иногда между романом и читателем возникает вибрирующая связь – благодаря необъяснимым перекличкам, многочисленным эхо, неожиданным отражениям – лица в лице, реальности в вымысле и наоборот, слова в слове, – хотя в целом и сегодня уже никто не спорит с тем, что «Лжеца» трудно отнести к удачам писателя. Он еще не овладел магией ремесла, позволяющей из крысы, перца и лепестка розы сварить волшебный напиток искусства.
Впрочем, и критикам, и читателям вскоре стало не до изящной словесности: через семь месяцев после выхода в свет «Лжеца» началась Вторая мировая война, а появление единственной сочувственной рецензии, принадлежавшей Малькольму Спенсеру, совпало с японской бомбардировкой Пирл-Харбора, – о романе естественно и благополучно забыли.
Джордж Ермо, собственно Георгий Ермо-Николаев, родился 29 августа 1914 года в Санкт-Петербурге, еще не переименованном из патриотических побуждений в Петроград, но уже переживавшем потрясения Первой мировой войны. Родился в городе, который часто называют северной Венецией, и прожил почти полвека в Венеции настоящей, – так что мы с полным правом можем сказать, что тема зеркальности вошла сначала в его жизнь, а уж потом – в творчество.
Отец его, происходивший из старинной знатной семьи (а родовой чертой русского писателя является, по замечанию Пушкина, шестисотлетнее дворянство), был известным инженером и ученым. Вскоре после рождения сына ему по поручению правительства пришлось отправиться в Англию, где он представлял русские интересы, связанные с военной промышленностью, а именно с поставками для русской армии. Кроме того, Михаил Ермо-Николаев читал лекции в университете, консультировал коллег из британских военно-инженерных ведомств, не забывая при этом и о бизнесе: он был владельцем и совладельцем ряда строительных фирм, занимавшихся возведением мостов, дамб, плотин, шлюзов и других гидротехнических сооружений.
О матери Джорджа Ермо нам известно мало. Она происходила из захудалого дворянского рода Мотовиловых, получила приличное домашнее образование, готовилась стать актрисой, чему помешали два обстоятельства – расстроенное здоровье и случайная встреча с Михаилом Ермо-Николаевым на лекции Брюсова в университете Шанявского в Москве. По отзывам друзей и знакомых, Лидия Николаевна не была ни красавицей, ни умницей. Страстная, увлекающаяся натура, она отличалась склонностью к пустой мечтательности и приступами глубокой меланхолии, которые подчас завершались помещением больной в одну частную психиатрическую клинику. В конце концов молодая женщина, оставшаяся с сыном во взбаламученной войной и революцией России, не выдержала выпавших на ее долю испытаний. Выехав при содействии друзей в Финляндию, а оттуда – в Берлин, она слегла окончательно. Ермо-Николаев с трудом перевез ее и сына в Лондон, в богатую блумсберийскую квартиру, а вскоре перебрался с ребенком в Северо-Американские Соединенные Штаты. Лидия же Николаевна была оставлена в Англии, в клинике Распберри-Хилл, неподалеку от Брайдхеда, где и умерла в 1952 году, пережив мужа, скоропостижно скончавшегося пятью годами ранее. Отношения отца и матери – темная страница биографии Ермо.
Его первый биограф Федерик де Лонго утверждает, что Джордж Ермо встречался с Лидией Николаевной, нарочно приехав для этого в Англию, – но она не узнала его. Однако сам писатель уклонялся от прямых ответов, когда речь заходила о матери.
Полубезумная вспыльчивая мать Генри Слейтона из «Говорящих людей», «вечно не находящая себе места, в неряшливом халате с карманами, в которых непрестанно позвякивали пузырьки и флаконы с лекарствами – она принимала их не глядя, помногу, но без удовольствия, – с крупным белым носом, украшенным красными пятнышками от пенсне», – быть может, ее образ навеян детскими воспоминаниями о Лидии Николаевне, пугавшей малыша Белым Карликом и панически боявшейся зеркал: цыганка предсказала, что в зеркале ей суждено встретиться со своею смертью.
Джордж Ермо-Николаев не считал себя русским писателем, да и русским-то был, по его словам, «условным», хотя и был крещен по греческому обряду в джорджвиллской Свято-Владимирской церкви. В отличие от Бунина и Набокова, рядом с которыми его чаще всего ставят, он не вывез из России почти никаких воспоминаний и впечатлений – ни запаха горькой брянской полыни, полонившей межи, ни заупокойной графики церковных куполов на белесой плоскости зимних небес, ни неубранных крестцов ржей, ни первой любви, ни легкого дыхания, ни солнечного удара, ни сладкого детского страха перед полуденным выстрелом петропавловской пушки – словом, ничего такого, что могло бы называться его Россией. Три-четыре сохранившихся в памяти образа ну никак не складывались в картину: шелестящая и мятущаяся под ветром тень сирени на твердой от жары глинистой дорожке, ярко-серебряное блюдо озера с черной лодкой посередине и черными же елками вокруг, празднично-желтый цыпленок, осторожно обходящий тарелку с сизовато-алой малиной, огромный матушкин нос, оседланный пенсне и являвшийся Белым Карликом по его душу в страшных сновидениях… Вот, пожалуй, и все, если, конечно, Ермо-Николаев был искренен в беседах с биографами и журналистами.
У него была своя holy land, где всегда мощно высятся ильмы, где еще можно отыскать красоту, покой и определенность, где всегда высоки травы, недвижима стрелка часов на церкви и к чаю по-прежнему подают мед, – его Овстугом, его Гранчестером стал новостроенный городок Нью-Сэйлем в Новой Англии, куда он возвращался после университета, после войны в Испании, после краха первого брака, после поражения союзников во Франции и где приводил в порядок свои мысли и чувства, где, наконец, он проводил в последний путь отца, дядю и тетушку Лизавету Никитичну, заменившую ему мать.
Вот они все вместе, запечатленные фотографом-любителем на лужайке перед домом, за длинным белым столом. Снимок датируется весной 1938 года. Джордж уже вернулся из Испании, откуда почти год передавал репортажи для «Northern Atlantic Review», и в два с половиной месяца завершил работу над своим первым романом.
Крайний слева, щегольски одетый господин с геометрически правильным лицом и тонкими усиками, придающими ему фатоватый вид, с огромной сигарой в зубах, – Михаил Ермо-Николаев. Его имя называлось в ряду с именами Тимошенко, Зворыкина, Сикорского – гордостью американской науки и промышленности. Суховатый деловой человек, он избегал встреч с эмигрантами-компатриотами и только брезгливо морщился – на свой манер, одними губами, – если при нем заводили разговор о загадочной l’?me slave.
Рядом с ним, на стуле с высокой спинкой, его брат Николай Ермо-Николаев, генерал от кавалерии, энглизированный аристократ, который и после пятнадцатилетней жизни в САСШ предпочитал британский pavement американской pavement и, по шутливому замечанию брата, «вел родословную от коня святого Георгия, оправдывая семейный герб».
Далее на снимке – Лизавета Никитична Аблеухова, урожденная Ермо-Николаева, обладательница самой прямой спины в округе, – воспоминания об этой удивительной женщине, по его собственному признанию, согревали создателя образов Кэтрин Мур из «Путешествия в», тетушки О из «Смерти факира», других образов много переживших, но не сломленных женщин. Между нею и Джорджем – смеющаяся веснушчатая Софья Илецкая, вскоре ставшая женой молодого Ермо-Николаева, криво улыбающегося в объектив.
Даже на этом не очень четком снимке видно фамильное сходство Ермо: у всех у них удлиненные, почти цилиндрической формы головы, долготянутые лица с плоскими, параллельными друг дружке щеками и твердыми круглыми подбородками, угрожающе выступающими вперед. Мужчины поражают громоздкостью, контрастирующей с мягким женским взглядом их красивых лисьих глаз.
Ермо-старший был успешным бизнесменом, блестящим исследователем, интересным лектором. По приглашениям университетов он читал лекции студентам, по делам фирмы проводил большую часть времени в разъездах по Северной и Южной Америке, – так что мальчик редко видел отца.
Джордж рос в доме дяди, где его называли только Георгием: тетушка (а она и была настоящей хозяйкой и царицей в этом доме) не признавала ни американского имени, ни амикошонского «тыканья». Поместительный дом с английскими экономическими лестницами – девять дюймов подъем, одиннадцать – проступь, с почти идеально отлаженной жизнью, – русский дом без намека на матрешечную сусальность. Счастливое американское детство в настоящем русском доме. Свежее и чистое новоанглийское небо, цветение боярышника, клейкие птенцы в гнездах, тявканье лис, яблочный пирог и индейка, stars & stripes, Ли и Грант, взятие Ричмонда, первая сигарета и первая любовь, Рождество – и вместе с тем: пламенеющая икона с Георгием Победоносцем и змием, «Мой дядя самых честных правил», кустарный портсигар с двуглавым орлом на крышке, перстень с «еленевым» камнем, Борис и Глеб, Петр Великий, переход Суворова через Альпы, «Умом Россию не понять», Пасха…
Дядя был человеком строгим и даже, на сторонний взгляд, суховатым. Всегда истово выбритый, пахнущий кельнской водой, всегда державшийся прямо, не позволявший своим рукам ни одного лишнего движения, он был кумиром кадетов военной школы, где читал лекции и откуда за ним каждое утро присылали сначала пароконный экипаж, а потом – изящный автомобиль-ландо с красавцем негром за рулем. Весь досуг его был поглощен составлением истории кавалерии, хотя сам он говорил, что будущая война станет войной денег и моторов. Писал он ясно, твердым почерком без наклона и чиновничьих каллиграфических финтифлюшек, и любил повторять, что речь должна быть хорошо откормленной, но без сала. Домашним не возбранялось читать перебеленные куски рукописи, хранившейся в кожаной папке, но этим правом пользовался один Ермо-младший, запасавшийся печеньем и забиравшийся с ногами на огромный диван, прозывавшийся «господином Толстым», на котором так хорошо было сидеть, перекладывать листы большого формата со строго выстроенными строчками, в то время как теплый ветер колеблет желтые шторы в гостиной, выходившей окнами на жирно-зеленые, тянувшиеся чуть не до самого океана поля, там и сям прочерченные перелесками, изящные осы пляшут над блюдечком с медом, выставленным на подоконник, из кухни потягивает запахом пирога с черникой…
Джордж хрустел печеньем, следя за захватывающим приключением, в которое на протяжении тысячелетий были вовлечены миллионы людей и животных: Александр Македонский и Ганнибал, побеждавшие, пока у них было превосходство в коннице; поражение крестовых походов как следствие поражения тяжелой бронированной европейской кавалерии от маневренных азиатских всадников; шведский Густав Адольф, возродивший значение конников на поле боя; Фридрих Великий, создатель кавалерии – недосягаемого идеала; педанты от дрессуры, взявшиеся в середине девятнадцатого века ломать лошадь…
Скучнее были главы, посвященные Гражданской войне в России, хотя, судя по всему, именно ради этих страниц Николай Павлович и затеял свой труд. Он детально анализировал причины первых побед Деникина, обладавшего благодаря сильной кавалерии бесподобной маневренностью (у него на каждого пехотинца приходилось два кавалериста, тогда как у красных – один), и тактику и стратегию красных конармий, которыми так восхищался Пилсудский, – с кивком в американскую историю: генерал Стюарт блестяще продемонстрировал огромные возможности крупных кавалерийских масс, сполна использованные русскими большевиками на бескрайних плоских просторах России и Украины…
«Пока мужчины воюют или сочиняют великие романы, кто-то же должен подержать этот мир на своих плечах, сварить похлебку, сделать, наконец, так, чтобы вернувшийся домой мужчина нашел свои тапочки на привычном месте и кусок хлеба на столе. В конце концов все войны, революции, все потрясения затеваются лишь затем, чтобы тапочки оставались на привычном месте. Беда в том, что часто их надевают совсем другие люди…» – эти слова принадлежат Лизавете Никитичне Аблеуховой.
Ее мужа, известного кадетского деятеля, расстреляли в ЧК. То ли в издевку, то ли из причудливо понятого сострадания обезумевшей женщине выдали его одежду, изодранную пулями и хрустящую от высохшей крови.
Их сын служил в большевистском комиссариате, ведавшем народным просвещением, и щеголял в долгополой шинели с «разговорами» и вошедшем в моду матерчатом шлеме-«буденовке». Узнав о гибели отца, он тотчас примчался к матери, но она, парализованная горем, не смогла выйти к нему. Не прошло и часа, как за ним явились матросы с винтовками. Всеволод заперся в детской, и когда чекисты стали стрелять в дверь, ответил одним-единственным выстрелом – в себя.
Друзья и родственники помогли Лизавете Никитичне покинуть Россию. После полутора лег скитаний она добралась до Америки, где поселилась на толстовской ферме под Нью-Йорком. Там и нашли ее братья Ермо-Николаевы.
Она привезла с собою четыре чемодана, которые в пути ни разу не распаковывала. Открыла лишь в отведенной ей комнате нью-сэйлемского дома. Братья ожидали увидеть в чемоданах кузины что угодно, но только не это. В чемоданах были камзолы, мундиры, фраки, сюртуки, пиджаки, плащи, рубашки, принадлежавшие Ермо-Николаевым, – пробитые штыком французского гренадера под Лейпцигом, проколотые дуэльной шпагой, продырявленные турецкой пулей под Плевной, пахнущие духами, порохом, тюремной сыростью, случайно или нарочно хранившиеся двести лет в семейном гардеробе, – и завершали коллекцию хрустящая от высохшей крови визитка ее мужа и зияющая дырой с опаленными краями – от выстрела в упор – долгополая шинель с «разговорами», принадлежавшая ее сыну. Вот и все, что она с собой привезла. Если не считать воспоминаний, – гардероб, в котором не было ни одной дамской тряпки.