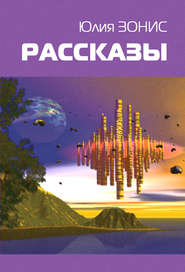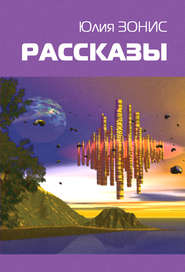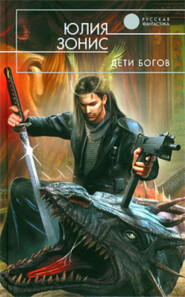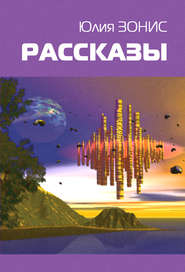По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культурный герой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отплывая от берега, Игрек думал: а вот я утону. Возьму и утоплю влюбленного кретина, пусть сдохнет, гадина, и больше меня не мучает. Ветер все еще носил по песку обрывки рисунка, ветер не хотел покрывать песком рассыпанные тюбики с красками, будто это был не пляж, а стерильная каменная пустыня, следы в которой сохраняются тысячелетиями. Следы преступления. Улики. Убил пещерный человек соплеменника, и он лежит сто эонов, мумифицируется, пока его не выкопает какой-нибудь козий пастух. А потом набегут антропологи и с почестями доставят мумию в музей, и нарекут Калифорнийским Человеком, и будут еще тысячу лет решать, замерз ли он холодной доисторической ночью, или его растоптал бешеный мамонт, или настигла стрела лучшего друга.
Игрек рассекал воду неумелыми саженками. Вода была теплая, парная, как утреннее свежее молоко. Буек плеснул слева и остался позади. Игрек плыл и думал о Снежной Королеве. Вот она поцеловала Кая, дурачка прилипчивого, и он больше ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Хочу быть Каем, думал Игрек. Хочу не чувствовать ничего, а особенно этой противной боли в груди каждый раз, когда слышу Иркин смех и когда вижу, как она, смеющаяся, глядит – не на меня. Игреку было всего двенадцать, и он еще не знал тогда, что все желания сбываются – раньше или позже, так или иначе. Он просто сплюнул соленую воду и развернулся к берегу, потому что тонуть передумал. Тонут в холодной зимней воде, а в этой, теплой, даже на ощупь бархатной, тонуть глупо. Только влюбленные слабаки, совсем ополоумевшие от своей дурацкой любви, тонут в летней черноморской воде – а Игрек слабаком не был.
Медуза поднялась из таких глубин, на каких, наверное, ходят только сказочные кракены и слепые безумные скаты. Она была древней тварью, но подчинялась зову луны и приказу человека, как и тысячи ее сестер. Раскрыв пухлые губы, она подплыла к худенькому мальчишке и, заглянув в его глаза, поцеловала его. Нет ничего сладостней и ужасней поцелуя Медузы. Даже от взгляда ее каменеют, а прикосновение обжигающих губ и вовсе способны пережить немногие. Вот и Игрек захлебнулся, задохнулся огнем и солью, и последнее, что он почувствовал, – как сердце, отчаянно стукнув два раза, остановилось и камнем ухнуло вниз, на морское черное дно.
В госпитале Ирка его навестила. Она присела на край койки и, отводя глаза, начала длинно и путано извиняться за что-то. Можно подумать, это она натравила на него бродячее кишечнополостное, а не сам Игрек призвал тварь из глубины. Игрек послушал-послушал и отвернулся к стенке. Каменное после поцелуя Медузы сердце молчало. Он не чувствовал НИ-ЧЕ-ГО.
Тогда же, лежа в насквозь просвеченном солнцем, пустом и гулком стационаре, Игрек понял, что всему виной дискретность. Люди не понимают друг друга, потому что дискретны. Один человек отделен друг от друга вакуумом, как планеты и звезды в космосе. Если два дома стоят вплотную друг к другу, думал Игрек, строители специально оставляют между ними воздушную щель. Соседи не хотят слышать, что делается у соседей. Звуки рассеиваются в воздухе, и никто ничего не слышит. И все довольны. Но почему люди дискретны? – продолжал рассуждать Игрек. Наверное, потому, что мы живем в дискретном мире. Электрон – не только волна, но и частица. Все состоит из частиц, и все частицы – сами по себе. Потом, возьмем зрение – тысячи колбочек и палочек, рассеянных по сетчатке, каждая передает лишь маленькую часть картины – и где гарантия, что половина не теряется? Значит, и зрение дискретно. Даже время дискретно, часы делятся на минуты и секунды, и в каждой секунде – что-то свое, и ни одна не сливается с другой, и ни одной нет до другой дела. Игрек лежал на спине (лежать на боку, до которого дотронулись щупальца Медузы, было больно) и наблюдал дискретность Вселенной. Он видел мельтешение миллионов пылинок под потолком. Видел, как ровной струйкой песка бегут секунды, одна за другой. Видел лицо наклонившейся над ним нянечки, состоящее из тысяч морщин, клеток, пятен и пор. Видел, как от далекого солнца отделяется стайка фотонов и летит – все вместе, но и каждый сам по себе, – чтобы закончить путь на покрытом вздувшейся краской подоконнике. Он видел и знал все. Такого свойство Медузьего яда. Он превращает твое сердце в камень и искажает зрение – или просто делает его более четким?
В пятницу приехал отец и забрал Игрека из лагеря. Садясь в желтую с черными шашечками «Волгу», Игрек оглянулся через плечо. Над больничным корпусом дрожал зной, и в зное дрожали листья акации, и морем набухал горизонт. Таким Игрек и запомнил это лето – запомнил, чтобы никогда не вспоминать. Осенью он пошел в новую школу, где никто не знал, что в старой его звали Очкариком, – и с первого же дня стал Игреком. Ему нравился этот знак, похожий то ли на перевернутого с ног на голову человечка, то ли на дорожную развилку или даже на веточку, которой находят святые места, зарытые клады и точки электромагнитных аномалий. Это был его знак. В новой школе мало думали о том, как бы отпинать после уроков хилого одноклассника, и много – о том, в какой университет и на какой факультет поступать. Большинство метило в МГИМО, но Игрек долго выбирал между биофаком и мехматом. Оба должны были дать подходящую базу для борьбы с дискретностью. Наконец, решив показать кукиш прерывности Вселенной с первых же своих взрослых шагов, Игрек сдал экзамены и прошел на оба факультета сразу. Уже через год, подготавливая материалы к докладу по нейробиологии (на биологическом Игрек выбрал именно эту кафедру), он знал, в каком направлении следует двигаться. И начал двигаться туда с каменным упорством человека, отмеченного Медузой.
– Кир!
Максик храпел под столом. Со стенки, с отклеивающегося плаката косился ариец восточнославянского происхождения. Другой ариец восточнославянского происхождения натягивал в соседней комнате брюки. Кир лениво перекинул ногу на ногу, повел рукой с зажатой в ней бутылкой «будвайзера» так изящно, будто не пивная бутыль это была, а бокал с мартини, и протянул:
– Ну и с чего ты взял, что я на них работаю?
– Кир, не парь мне мозги, – устало сказал Игрек, отодвигая от себя лэптоп. – Ты, конечно, можешь прикидываться этаким баловнем судьбы, наследничком-миллионщиком. Парти бист. Но я-то знаю, милый, что мать у тебя швея-мотористка на фабрике «Красный компост», а папаня – алкаш. Не их денежки ты на вечеринках прогуливаешь.
Кир должен был бы по законам жанра смутиться, однако не смутился. Только взгляд его поверх бутылки стал более внимательным.
– Ну, допустим. Допустим, я есть тот, кто я не есть. И что же ты от меня хочешь?
– От тебя – ровно ничего. Точнее, хочу, чтобы ты показал эти материалы, – Игрек помахал флешкой, – своему начальству. Как его бишь там? Господин полковник госбезопасности?
– Его превосходительство ротмистр Чача. А почему это должно мое… хммм… предполагаемое начальство заинтересовать?
Игрек вздохнул и нехотя кликнул мышкой, открывая файл. Придвинул лэптоп, так чтобы Киру был виден экран. Кир всмотрелся. Потом еще всмотрелся. Потом отставил бутылку и всмотрелся совсем уж внимательно – будто и впрямь что-то понимал, хотя сыну мотошвеи и не полагалось. Но, видимо, понял (а точно ли сын мотошвеи?), потому что закрыл файл и протянул Игреку руку ладонью вверх.
– Давай свою флешку.
Игрек торопливо вложил флешку в ждущую ладонь, и пластиковый прямоугольник мгновенно исчез, будто его и не было. Фокусник, блин. Там их, что ли, учат фокусам?
– Допустим, – почти пропел Кир, – допустим, господин ротмистр скажет «добро». Что мы тебе такое можем дать, чего нет в вашем задрищенском институте?
– Деньги. Деньги в первую очередь. Оборудование.
Игрек был деловит и четок, он готовился к этой беседе уже больше месяца.
– Парочку хороших программистов, конечно. Биологов я приведу. Ну и… материал для опытов. На енотах и крысах я уже подтвердил, обезьян мне не дали. А я бы сразу перешел к непосредственному объекту эксперимента…
Кир улыбался, зараза.
– Вот за что я вас, ученых, люблю. Святейшие люди, измеряют содержание солей натрия в слезинке ребенка для счастья всего человечества. А понадобится вам для Нобелевки мать родную, как лягушку, распластать – распластаете, не поморщитесь.
Игрек пожал плечами. К таким разговорам он привык. Еще когда директор института, Синицын Пал Палыч, тишайшей воды человек, орал на него, багровея и брызгая слюной, – уже тогда Игрек знал, что придется вытерпеть и этот издевательский тон, и эту улыбку. Ничего. Он вытерпит. Главное в другом.
– Да, мне нужны люди для опытов.
Улыбка Кира стала кривой.
– Ценю. Прямоту – ценю.
В комнату, чертыхаясь, ввалился Васька Старлей. В руках у него был новая упаковка пива, а в глазах – вечная пубертатная тоска.
– Последнее, – простонал он, грохая пиво на стол.
Максик отозвался с пола жалобным всхлипом, и заорал за стенкой, у соседей, патефон.
– «Рио-рита», – злобно сказал Старлей. – Хуй ебаный, а не «Рио-рита».
Пластинка скрежетнула, и вправду зазвучало что-то про ебаный хуй.
В отличие от своего эмиссара, его превосходительство ротмистр Чача производил впечатление редкостного тупицы. Почему-то Игреку никак не удавалась разглядеть его лицо. Над воротничком снежно-белой рубашки маячило нечто расплывчатое вроде пористого и жирного блина. Зато кисти рук у его превосходительства были выдающиеся, особенно костяшки пальцев. Мощные, поросшие черным волосом, а пальцы красные и мясистые. Как ни старался Игрек отвести глаза, а взгляд невольно притягивался к этим костяшкам, будто они таили некое смутное, но заманчивое обещание.
– Еще, – сказал его превосходительство, и Игрек, вздохнув, в пятый раз запустил файл.
На небольшом экране лэптопа высветился прозрачный аквариум с подопытными мышами. Крышку аквариума заменяло серое ухо излучателя. Палец экспериментатора (игрековский палец) нажимал на кнопку, включая прибор. Более тонкая, женская рука (лаборантка Эллочка, ох эти пластиковые кудри цвета несбывшейся надежды) в резиновой перчатке опускалась в аквариум. В руке была зажата иголка. Левой рукой Эллочка прижимала одну из мышей, а правой сильно колола в основание хвоста. Мышь отчаянно вспискивала. И одновременно в унисон пищали и все остальные мыши. Игрек выключал излучатель, и на сей раз мучимая мышь пищала в одиночестве, пока остальные продолжали сновать по клетке. Палец на кнопке – пищат все мыши. Палец с кнопки – одна. И снова. И снова.
– Бедные мученицы науки, к вам обращаю я думы свои, – меланхолично сказал Кир. Он явно скучал.
– Цыть, – отрубил Чача. Сырой блин обратился к Игреку: – Все это впе-ча-тля-ю-ще. Ну а мы почему должны спонсировать ваши экс-пе-ри-мент[ы]?
– М[е]нты, – вяло поправил Кир.
– Цыть.
Две дырки в блине впились в лицо Игреку как бы укоризненно, и Игрек почувствовал, как втягивает его в себя непропеченное тесто и сырая блинная муть.
– Господин полковник, представьте, что вы допрашиваете… подозреваемого. Террориста. А он молчит. Знаю, у вас есть способы… и все же они работают не всегда, особенно с этими смертниками, им-то уже все равно, жить или умирать…
– Э-э, батенька, не скажите, – оживился блин и весь даже залоснился от радости, что говорят о знакомом предмете, – им-то как раз хочется помереть, и красиво. А помереть мы им не даем. Живут, сцуки, и мертвым своим товарищам завидуют. Это мы и сами…
Игрек вздохнул.
– Суть не в пытках. Под разработанным мной излучением сознания объектов как бы сливаются. Все, что знает ваш террорист-смертник, будет знать и следователь…
– И наоборот, – тихо добавил Кир.
Игрек едва удержался от того, чтобы не швырнуть в приятеля пепельницей.
– Я разрабатываю сейчас излучатель с односторонним действием. Более того, у новой модели будет возможность подключаться к любым мобильным устройствам. Представьте: ваш оператор сможет контролировать какое угодно число объектов, не выходя из этой самой комнаты. Он скажет: «Прыгай», – и террорист сиганет в канализационный люк. Полное слияние и полный контроль. Но для опытов мне нужны деньги…
«Ничего, – думал Игрек, – ничего. Еще немного пошевелят своими блинными массами и заплатят. Они и знать не знают, ЧТО я на самом деле хочу сделать. А когда узнают – если успеют, конечно, – поздно будет. Позд-но».
И он улыбнулся.
В подводном дворце Медузы стены сложены из кораллов, а полы вымощены перламутром. В подводном дворце Медузы таинственно мерцают заплывающие в окна глубоководные удильщики, и в удочку каждого впился зубами премудрый морской карась и тоже светится розовато. В подводном дворце Медузы нитками жемчуга свисают со стен анемоны и холодно сияют сгустки азотфиксирующих бактерий. Все есть в подводном дворце Медузы, лишь нет самой Медузы и нет меня. По просторным залам разносится тихий детский плач. Это плачет девочка Ирочка. Она истоптала сотню водолазных железных башмаков и изгрызла сотню неводов, пробираясь к дворцу, – но не нашла здесь ничего, кроме света и тишины.