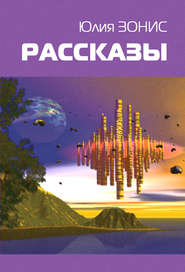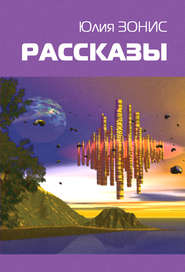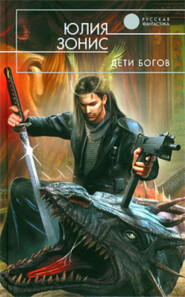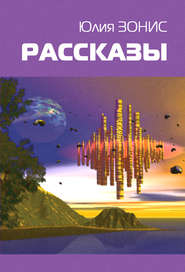По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культурный герой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
что сквозь очи его смотрит Бог.
М. Э. Белецкий, из ненаписанного
Допустим, было так. Ее звали Агнессой, и любимым цветом ее был серый – серая туника, серая стола, серый камень фонтана. Лишь глаза ее были черны, как итальянская ночь, черны, как волосы ее сестер, черны, как упругие пружинки волосков вокруг ее сосков и в паху. Муж ее был из старых армейских, когда-то молодец, всадник и герой, потом интересовался политикой, говорил горячо и долго в сенате, но сейчас не те времена. Сейчас муж сидел в саду, больше молчал, строгал фигурки из сухих веточек. За спиной его рыжел вьющийся по стене дома виноград.
Допустим, соседка, говорливая и благоволящая садовнику, сказала ей однажды: «Агнесса, полно уже скучать. Ну что ты, в самом деле, все одна и одна? Пойдем со мной нынче вечером, я познакомлю тебя с интересными людьми. Они сейчас очень в моде». Агнесса вздохнула, она предпочитала тишину своего дома и сада и одиночество с молчаливым мужем, но отказать соседке было неловко.
Интересные люди встречались почему-то в катакомбах, куда неудобно было спускаться и где чад от скучившихся тел и факелов ощутимо резал глаза. Бородатый человек с рыбой изъяснялся невнятной скороговоркой, будто набрал в рот песка. Агнесса мало чего поняла кроме того, что ей хочется домой и что шататься ночью по катакомбам дочери Верния не пристало. Она уже совсем собралась уходить и обернулась к соседке с ее садовником-рабом – тот держал факел за спиной своей госпожи, – когда серые глаза блеснули ей из-за обнаженного плеча раба. Нет, не блеснули – просияли, как пыльное зеркало, если его протереть ветошкой. Девушку с серыми глазами могли звать Ливией, Либией или Гвиневрой, у нее были льняные волосы и робкая улыбка той, что не привыкла к вежливому обхождению. Она была собственностью Марка Луция, но это не имело никакого значения, как ничего ни до, ни после этой встречи. То, что расцвело между ними, как поздний цветок на пороге зимы – не мягкой итальянской зимы, а иной, взрывающей льдом древесные стволы на родине сероглазой, – было смертным грехом или не темой для салонных разговоров, смотря по тому, обретался ли ты в городе наверху или в катакомбах. Все не имело значения, пока на господина императора не снизошел очередной приступ ипохондрии. Господин император лечился от ипохондрии публичными казнями, что было огорчительно, ибо однажды в дверь дома Марка Луция постучали. Агнесса нашла сероглазую три дня спустя, в узких и зарешеченных кавернах под Большим Цирком. Серые глаза впали, и пеплум извалялся в грязи, но улыбка осталась все той же.
Агнесса, супруга уважаемого в Городе полководца, еще из тех, старых, железных, гонявших пиратов и германцев, – нынешние годились разве на то, чтобы распивать вино и ошиваться по приемным, – Агнесса вздохнула и призналась в принадлежности к людям Рыбы. Старик муж встал со своей скамеечки, отложил нож, которым он вырезал фигурки из дерева, и отправился во дворец, но там его и слушать не стали. Императорские львы остались довольны.
Кир: Все это очень романтично, ваше преосвященство, but you should know your history better. Вторую девчонку звали Мэри; что же касается дочки патриция, то ее протащили голой по улицам, а потом отрубили голову. И было ей всего тринадцать лет. В царствие Диоклетиана…
Джентльмен: В царствие Диоклетиана, неразумное чадо, люди любили и умирали так же, как и во все остальные царствия. Слушай дальше.
Или все случилось иначе. Допустим, ее звали Гнесей и она жила в небольшом домике на окраине деревни. Родители ее умерли оттого, что деревня отстроилась на краю болота, – земли господина были худы, несмотря на гордый родовой герб со львом. Родители легли в эту худую, сырую землю, сначала отец, а затем и мать, их унес мокрый кашель. Гнеся с малых лет пряла овечью шерсть, и пальцы ее стали грубы, покраснели глаза, губы потрескались, ведь нить надо было смачивать слюной. Веретено плясало день и ночь в покосившейся хижине. На самой кромке болота, за рядом тощих лиственниц, обитала деревенская ведьма. Глаза ее были серы, как жиденькое небо над деревней, и по ночам она летала на метле и пила овечье молоко прямо из мягких, навозом пахнущих сосцов. Когда руки Гнеси потрескались и потекли кровью, она отправилась к ведьме за целебной мазью. Ведьма оказалась вовсе не такой уж страшной, она была не старше Гнеси, у нее были русые волосы и робкая улыбка той, что не привыкла к вежливому обхождению. И правда, какая вежливость с ведьмой? Ведьма смазала больные руки Гнеси чем-то вязким, пахнущим полынью и горелым жиром. Они сидели у очага и пили яблочный сидр, и ведьма рассказывала про свою прабабку – вот та и впрямь была ведьмой и могла вызвать грозу, зубную боль и самого дьявола из преисподней. Гнеся верила и боялась верить, и смотрела на отблеск красного пламени в волосах хозяйки.
Зима была долгой. Стволы лиственниц лопались от разрывающего их льда, но для Гнеси эта зима была самой теплой из всех ее зим. Когда в деревню вошел летучий отряд матери нашей святой инквизиции, Гнеся была дома. Она пряла шерсть. Услышав крики, она выглянула в окно и увидела, как соседки швыряют грязным снегом в ведьму. Ведьму тащил на веревке здоровенный солдат. Гнеся отложила пряжу, вышла из дома и призналась человеку в черной сутане в том, что она умеет вызывать грозу, зубную боль и самого дьявола из преисподней. Человек в черном пожал плечами. Это была самая легкая из полученных им конфессий, а на его счету числилось их немало. Пламя костра было жарче пламени в камине сероглазой ведьмы, жарче, но не теплей.
Джентльмен: Тут все дело в их происхождении. Если проводить аналогию, ангелов можно сравнить с первым детским лепетом Безымянного. Ну а люди – это уже вполне взрослая, определившаяся речь. Слова взрослого отлиты в четкие рамки, хотя изнутри могут быть очень и очень обманчивы. А вот с первенцами Неназываемого все наоборот: суть их проста и ясна – так гуканье младенца, какое-нибудь «ня-ня», определенно означает «пить» или «хочу на горшок». Следует заметить, что в случае Эйн-Шем, конечно, дело не в самом горшке, а в том, что первичную пустоту сосуда необходимо было чем-то заполнить – иначе канешь, словно пресловутая лягушка. Если же у тебя нет ни дерева, ни камня, ни песка, единственное, чем можно было мостить эту жутковатую бесконечность, – слова, и только слова. Он и мостил словами. Бросал слова под ноги судорожно, как тонущий в грязи швыряет заплечный мешок или каравай хлеба и наступает на него, и все-таки тонет…Однако мы отвлеклись. Запомни одно: ангелы, незамысловатые изнутри, снаружи до обидного изменчивы, потому как хрен его разберет – сегодня это «гага», завтра «баба», а значит, все тот же «горшок».
Кир: Мне нравятся ваши метафоры, Учитель Мудрости, особенно нарочито фрейдистская фиксация на горшках. Горшок – это выразительно. Это, я бы даже сказал, концептуально. И все-таки, если ангелы и вправду так изменчивы, зачем вы непрерывно повторяете одну и ту же затасканную историйку с лесбийскими мотивами?
Джентльмен: Не я сказал, Кирка, а кое-кто услышал. И вообще, чем тебе не нравится моя интерпретация? Ты-то кем бы хотел ее увидеть?
Кир: Да кем угодно. Сестренкой горского князя. Резиновой женщиной. Беспородной шавкой, до конца преданной своему хозяину. Игрушкой…
Джентльмен: Жестко. Я бы даже сказал, жестоко. А жестокость в этом лучшем из миров всегда возвращается к своему источнику, Кир, так что поумерь прыть. К тому же открою тебе большой секрет: кем бы ни казался ангел, суть его остается все той же, и надо лишь припечатать ее метким человеческим словом. Скажешь «ангел» или хоть «малах» – и встанет он перед тобой, как на духу. Крылья. Нимб. Меч. И прочие атрибуты. Ну так вот, возвращаясь к истории об Аврааме, Исааке и ягненке…
Кир: Но, мой генерал, вы же не думаете всерьез, что у ангела было время искать каких-то там ягнят? Представим эту сцену: обезумевший от горя старик заносит нож над сыном, пацан рыдает, лезвие дрожит над его обнаженной грудью без единого волоска… а ангел между тем носится по холмам в погоне за разбегающимися овцами. Ей-богу, смешно. Не логичней ли предположить, что ангел столкнул мальчика с алтаря в последний момент, да и сам ненароком угодил под нож?
Джентльмен: Ты, Кир, опять богохульствуешь?
Кир: Я не богохульствую, Отец Мертвых. Я рассуждаю. Кроме того, если уж возиться с крылатыми, мне было бы приятней думать, что как раз с таким ангелом мы и имеем дело.
Перенесемся на несколько столетий вперед. Гордый и старый город над излучиной реки, город, несущий на штандарте восставшего льва; путаница мощенных булыжником улиц; остатки древней крепостной стены; пробивающийся между серых камней росток клена дрожит на ветру. В кирпичном здании гимназии дребезжит звонок на перемену. Заметим, сначала я рисую широкую панораму, затем план поближе, затем – вспышка, стоп-кадр. Две гимназисточки выбегают из здания, на них белые передники, они держатся за руки. Имя черноглазой – Гнешка, сероглазую зовут Миррой, Миркой. Девочки смеются и отделяются от толпы одноклассниц. Они вырвались из пыльного, мелом пропахшего класса, из скучной дормитории, стены которой выкрашены желтой масляной краской. Они бегут к мосту. В этот день ранней осени река под мостом еще не того свинцового цвета, что будет позже, – нет, она играет на солнце. К перилам прилип желтый кленовый лист. Железо влажно от недавнего дождя. Сероглазая Мирра взбирается на перила и со смехом смотрит в реку. Гнешка смотрит только на свою подругу. Потом вместе они карабкаются на крепостную стену. Устраиваются в укромном месте, в тени выщербленного зубца, неподалеку от пугливого ростка. Гнешка берет руки Мирры в свои ладони. Мирра смотрит вдаль, в глазах ее отражаются солнечные блики, и черепичные крыши, и каменные львы старого города, и Ремесленная площадь, и поля за городом в ровной шерстке стерни, и дорога, и всё. Мирра улыбается. Она вообще часто улыбается. Она смеется, и шепчет смешные и страшные сказки в темноте дормитории, и щекочется под одеялом, и зажимает Гнешкин рот, когда в коридоре раздаются строгие шаги комендантши. Комендантша не любит сказок. Сказкам она предпочитает молодых красивых офицеров в новых мундирах, которые танцуют в парке. Трубы оркестра сияют ярче начищенных офицерских сапог. Когда в город войдут войска в серой униформе, вкатятся на брыластых танках и пыльных «фордах», эти молодые, красивые не продержатся и дня.
Конечно, Гнешка спрячет подругу на родительском чердаке, ведь серые расстреляют всю семью Мирры на четвертый день после своего победоносного марш-броска. Конечно, найдется сосед-доброжелатель, который подглядит или подслушает, как Гнешка каждую ночь взбегает на чердак с узелком еды. Конечно, серые придут за Миррой, и с ней уйдет и Гнешка. Мы уже знаем эту историю наизусть. В камере усталый ксендз пригнется к лицу Гнешки и скажет огорченно: «Хоть бы ты путалась с католичкой, дочь моя». До лагеря Гнешка не доживет. Ей повезет – она умрет в тюрьме, за два дня до пересылки, от воспаления легких. В камере она нацарапает на стене…
Джентльмен: Я мог бы продолжать бесконечно.
Кир: Не стоит, Осквернитель Источника. Основное я уже уловил. Но разве это не подтверждает моей гипотезы?
Джентльмен: Ни в коей мере, малыш. Видишь ли, ангелы по сути своей чужды иной любви, кроме любви к Создателю. Кроме того, если бы ты прислушался внимательно к моей истории, то понял бы, что никто никого не спас.
Каждой планете положен свой Ангел Смерти. Он приходит в черный последний день. Ангела этой планеты звали Анжелой. У Автора Сценария явно были нелады с воображением. У Анжелы бледное детское личико, фигура тринадцатилетнего андрогина и огромные белые крылья, которые волочатся за ней по земле. Казалось бы, к перьям должен прилипнуть уличный сор, однако крылья остаются снежно-белыми. Глаза у Анжелы того цвета, который был единственным во Вселенной до появления первых звезд.
– Момент, когда убивают Меркуцио… – Кир сидел на куче старых полосатых матрасов. Матрасы были свалены на сцене студенческого театра и, как и все остальное, успели покрыться тонкой пленкой пыли. Кир беседовал с актерами. – Он может показаться вам неважным. Совсем незначительным по сравнению с первой встречей на балу или, скажем, сценой на балконе. Однако это – ключ ко всей истории. Возьмем, к примеру, Великую Войну. Убийство эрцгерцога – какая малость по сравнению со всем тем ядовитым котлом, в котором варилась тогдашняя Европа. Однако есть причина и есть зачин, есть пружина, отвечающая силам упругости и давления… – Тут для пущей наглядности Кир выдрал из матраса пружину и сжал ее двумя руками. – Есть, говорю, потенциальная энергия, жаждущая превратиться в кинетическую, в энергию разрушения, и есть спуск, толчок, высвобождающий эту энергию. – Кир отпустил левую ладонь. С визгливым звоном пружина погналась за рукой Кира и ужалила его в мизинец. Кир заругался. На подушечке пальца выступила капля крови. Кровь, понятно, была голубой. Кир сунул уязвленный мизинец в рот.
– Браво.
Кир обернулся на редкие и негромкие хлопки. Хотя хлопающие ладошки были миниатюрны, от каждого хлопка к балкону второго яруса поднималось облачко пыли.
– Еще лучше эта речь подействовала бы, если бы вы обращались к живым актерам, а не к марионеткам.
Кир вынул палец изо рта и улыбнулся:
– Что поделать. Театр теней – и то роскошь по нынешним временам.
Он встал с матраса и прошелся по сцене, взбивая кудрявые пылевые облачка. Доски скрипели, как скрипит береза без скворечника.
– Место, в общем, для меня ностальгическое. Вот здесь, на полдороге между сценой и гримеркой, я в первый раз встретил Ирку. Она волокла декорации. А я вызвался ей помочь. Это ужасные декорации, сказала она. И вправду, декорации оказались ужасны. Что поделать, я вечный аматер, прибавила она. Какой из меня художественный директор. Примерно такой же, как из меня режиссер, ответил я, и после этого мы подружились. Она была на первом курсе филфака, а я заканчивал медицинский. По четвертому, кажется, разу.
Анжела спустилась по ступенькам к сцене маленького театра.
– Вы хотели меня видеть, Кир? Зачем?
Кир склонил голову к плечу и оценивающе оглядел ангела.
– Продайте секрет.
– Какой секрет?
– Как ваши крылья остаются такими незапятнанными? Я посидел тут пять минут и извалялся в грязище, как свинья.
– Кир, у меня не так уж много времени. Вы хотели поговорить со мной? Говорите.
– Что, расписание поджимает? Полномочный посол локустов уже весь извертелся от нетерпения – так ему не терпится вгрызться в плоть матушки Земли?
Анжела улыбнулась. Лучше бы ты не улыбалась, подумал Кир. От такой улыбки сверхновая схлопнется и станет черной дырой.
– Ну какая вам Земля матушка? Вы здесь в лучшем случае непрошенный гость, который, как известно, хуже кабардино-балкарца. Вас терпели. Вам не мешали. А теперь настало время погостить где-нибудь еще.
– А вам ее ни чуточки не жалко?
Анжела развернула крылья. Театр наполнился их игрой – так играют пылинки в луче света, упавшем из-под церковного купола.
– Я знаю о вашей теории, Кир, – сказала Анжела голосом холодным, спокойным и звонким. – И она не лишена занимательности. Но вам не хватает фактов. Неназываемый действительно отправил ангела к Аврааму, когда тот занес нож над собственным сыном. Направил, да, но не затем, чтобы спасти Исаака. А чтобы проследить за исполнением. – Анжела вновь сложила крылья и сделала шаг назад, вверх по ступеням. – Жаль вас разочаровывать, но мне пора.
– Я позвал вас не за этим.
Ангел обернулся.
Кир нес в руке старую керосиновую лампу. Свет плясал по стенам подвала. Шаги ангела за спиной Кира были бесшумны.
– Это здание довольно старое. Построено еще до Великой Войны. Лет сорок назад его задумали было объявить памятником архитектуры, но потом пронюхали, что тут было, и Министерство культуры быстренько открестилось. Отдали университету. Сначала медики хотели устроить тут анатомический театр, но вентиляция никуда, проводка слабенькая. Да и аудитория, как вы видели, невелика. Ломаницкий, великий был человек, отбил студентам под драмкружок. Сверху гримерки, костюмерные, звукостудия, а внизу подсобные помещения.