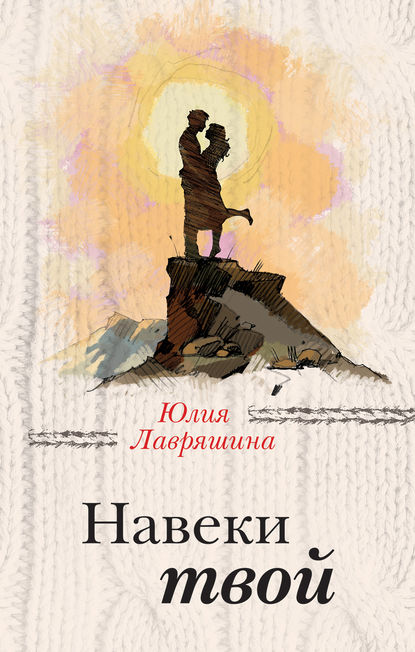По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Навеки твой
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А, это ты, – медсестра узнала меня, но тут же снова перевела взгляд на Глеба, и черты ее оживились. – А это… с тобой?
– Это ее брат, – вмешалась Лэрис, делая шаг к нему и загораживая меня. – Мы считали, что он погиб в Чечне. Нам даже гроб прислали. Закрытый, правда… А он вот вернулся…
Она, казалось, сама была изумлена тем, что произошло. У меня все мелко-мелко задрожало внутри: началось… Медсестра слушала, приоткрыв перламутровый рот и чуть отклонив к плечу голову, стянутую крахмальными тисками шапочки, делавшей всех сестер похожими на Нефертити.
– Вот это да! – выдохнула она, и стало очевидно, что Лэрис удалось вызвать потрясение. – Черт, как в кино!
– Точно, – подтвердила я, но моего шепота никто не расслышал.
Сестра уже шла на попятную, бормоча, что, конечно, раз такое дело… Но толпой все равно нельзя… Глаза Глеба снова засветились отрешенностью, и только тут я заметила, что они вновь стали темно-синего цвета. Это были глаза моего брата, я могла бы дать на отсечение не только руку, но и голову.
– Вот ты… и ты… – медсестра неуверенно ткнула пальцем в нас с Глебом. – Вам можно пройти. А ты-то кто?
Мне уже не были слышны объяснения Лэрис. Ей наверняка было что порассказать заинтересованному слушателю. Я шагала по слабо освещенному коридору рядом с Глебом, и в голове у меня надувался плотный шар. Он уже давил на уши и глазные яблоки, быстро приучая меня передвигаться на ощупь. За ручку двери, ведущей в мамину палату, я схватилась первой, тщетно пытаясь преградить Глебу дорогу. Он отодвинул меня и вошел.
В то же мгновение шар в моей голове испустил дух, и я отчетливо увидела, как Глеб осторожно, будто пробираясь по льду, движется к маминой кровати. Она не спала и, когда он вошел, смотрела в окно. Белый холодный свет от фонаря, освещавшего наполовину обросшее снежной коркой стекло, заливал ее и без того бледное лицо, придавая ему нездешний, лишенный плотской живости вид. Она всегда была больше духом, чем телом, просто сейчас это стало бросаться в глаза.
Заслышав скрип двери, мама чуть повернула голову, раздираемую изнутри опухолью, и безо всякого удивления взглянула на Глеба. Должно быть ей почудилось: смерть взяла ее так бережно, что она и не заметила этого. Оставалось только радоваться – на пороге ее встретил самый лучший, самый любимый, самый красивый, измученный ожиданием…
Я замерла, скрытая незатворенной дверью, стекло в которой было задернуто белой кулиской. С одного боку она немного сбилась, и я, присев, припала к этой щели. Я видела Глеба лишь со спины, но спина-то как раз ничего не выражала. Она не вздрагивала и не напрягалась. Мамино лицо по-прежнему казалось безжизненным. На миг я даже испугалась: вдруг она утратила остатки зрения и просто интуитивно смотрела именно в ту сторону, откуда раздавались шаги?
Но в тот же момент что-то сместилось в ее больной голове, и краски внезапно прихлынули к щекам. Стоило ей сделать попытку приподняться на локтях, как Глеб оказался рядом и подхватил ее, приняв в большую ладонь плохо державшуюся голову. Теперь они были совсем близко, и я сжалась, ожидая… Сама не знаю, чего я ожидала. Так они были близки, что даже дыхание их смешивалось, пропитываясь запахом другого.
Стараясь не скрипнуть, я проскользнула в палату и остановилась на пороге. Никто не обратил на меня внимания. Обе мамины соседки по палате затаив дыхание глядели на Глеба, а он не отрывал взгляда от мамы. Сейчас она лежала на его руках, будто пришел черед сына баюкать свою обессилевшую от жизни мать. Я ждала, когда кто-то из них произнесет хоть слово, но оба молчали, И мне стало ясно: было глупо бояться, что наша мать способна испустить животный крик, подобный вырвавшемуся из груди Романовой. Но это меня не обрадовало. Их отношения вновь ускользали от моего понимания.
«Но это же не он!»
Я едва удержалась, чтобы не выкрикнуть это и не перерубить одним махом наливающуюся звенящей прочностью, возникающую на моих глазах связь. Это молчание, это выражение, наконец, обретенного покоя на мамином лице, эта уверенная нежность в его руках – все было так неподдельно, так естественно, что вызывало восхищение и ужас перед бесстрашием таланта Глеба. Новый великий лицедей. Не зря он бредил Голливудом… Да нет, не он, я опять перепутала.
– Мама, – позвала я, чувствуя, что больше не в силах оставаться в партере, – позвать врача? Тебе дать какое-нибудь лекарство?
– Нет, – ответила она механически, даже не взглянув в мою сторону.
– Хочешь, я налью тебе воды?
– Нет, – на этот раз в ее голосе послышалась досада.
Мама опять подалась чуть вперед, и Глеб, стоя на коленях, тут же помог ей. Она не делала даже попыток обнять его, руки были безжизненно вытянуты поверх одеяла. Просто смотрела и молчала. Потом ее синеватые губы задрожали, и, казалось, мама была готова расплакаться. Но вместо слез прозвучал шепот:
– Господи… Господи… Спасибо тебе…
И вдруг Глеб заплакал. Этого я никак не ожидала. Это превосходило нормальные людские возможности. Он все еще держал ее ослабевшее тело на весу и прижимался лицом к несвежему белью, укрывавшему маму. Я не могла этого дольше выносить и тихо вышла в коридор. Никто из них не окликнул меня.
Лэрис все еще болтала с медсестрой. При виде меня она торопливо бросила: «Погоди-ка…» – и как-то боком двинулась ко мне. Ее длинная тень – порождение настольной лампы – опережала ее, но, преломленная в коленях, она утрачивала сходство с Лэрис.
– Ну? – ее приглушенный голос заполнил длинный пустой коридор. – Как там?
– Лэрис! – Я цепко схватила ее за плечи, пытаясь через боль пробиться к ней настоящей. – Скажи мне, Лэрис, как это возможно?
* * *
Я могла любоваться своей кошкой часами. Ее дару мгновенного перевоплощения могла бы позавидовать любая актриса. Вот она вскакивает утром ко мне на постель – нахальный сорванец, в раскосых глазах которого зеленым огнем светится жажда приключений нового дня. Голод пробуждает в ней обольстительницу, но не расчетливую, а подверженную страстям. Она трется о мои ноги всеми чувствительными частями своего тела, и предчувствие наслаждения исторгает стоны из глубины ее кошачьего существа.
Наевшись, Цесса становится леди. Ее взгляд источает холодное презрение, в походке не остается и следа былой суетливости. Узкая вытянутая морда обретает невозмутимость сфинкса.
Но тут же – ап! Она раскидывается в самой вульгарной позе и начинает бесстыдно вылизываться. В глазах – вызов: да, такая вот я – стерва!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: