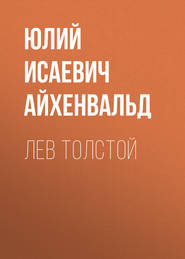По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Федор Сологуб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Федор Сологуб
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #61
«Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы, они большей частью лишены, чужды живой образности, но зато проникнуты холодной красотою безнадежной мысли и жутким звоном звенит их отточенный клинок…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Федор Сологуб
Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы, они большей частью лишены, чужды живой образности, но зато проникнуты холодной красотою безнадежной мысли и жутким звоном звенит их отточенный клинок.
В самой форме человеческого стиха есть что-то мироутверждающее; стих сам по себе – это уже оптимизм, признание вечных ценностей и красоты; стихом приобщает себя поэт к изначальной гармонии сфер и в стройную музыку жизни привносит свою ноту, собою дополняет общий концерт бытия. Властитель ритма, слагатель рифм не только соглашается с творчеством Бога, но и продолжает его. На всяческую прозу, внешнюю и внутреннюю, мы вынуждены и обречены, ею говорим поневоле, в ней мы неповинны, и если удовлетворяемся ею, этим скудным орудием повседневности, то это и значит, что мы от мира ничего не хотим, ничего не ждем и только плетемся по дороге, на которую нас послало чье-то неведомое повеление. Проза – это сила инерции; проза – это покорность и пессимизм; с нее и нельзя много спрашивать; на ее языке говорят рабы, безропотные исполнители чужого поручения. Но если, не довольствуясь ею, ее отвергая, мы по собственному изволению начинаем писать стихи, то это значит, что мы благоговейно приняли мир, склонились молитвенно перед святынями его храма и готовы воспеть ему свои особые псалмы. Поэзия – это почин; но разве пессимист начинает, разве не в том его темная сущность, что он раз навсегда отказывается от инициативы и опускается в мертвые воды глубокого равнодушия? Пессимист не продолжает; его не влечет и не тешит новое, и потому его стихия – проза. Стихами же, в прозрении идеала, над миром духовно воздвигается мир другой. В них может быть, конечно, отчаяние, и скорбь, и насмешка, но в основе их непременно лежит утверждение, и самое ядро их – непременно живое. Ибо поэзия – это жизнь и проза – это смерть.
Вот почему замечательные стихотворения Сологуба производят сильное впечатление своей сокровенной противоречивостью: они – стихи смерти. Зачем понадобилась смерти поэзия? И то, что автор не механически слил, а, по крайней мере, сделал попытку синтезировать живое и мертвое, то, что у него с жизнью смерть переплела свои жесткие, свои жуткие нити, – это и составляет существенный признак его своеобразного творчества. И, может быть, именно потому в его стихотворениях есть неумолимая законченность; беспощадно сжаты, одновременно просты и торжественны, зловещи и скупы его четкие и умные строки, и он больше ни слова не скажет, не пояснит, избегает дополнений, и даже потенциально не открываются здесь дальнейшие перспективы – их и нет: все заклято, очерчено, заколдовано. Живое бесконечно, мертвое ограниченно. Законченности смерти не может одолеть никто.
В чертоге смерти у Сологуба нельзя искать первых элементарных чувств, поэтической свежести сердца. Если какая-нибудь первобытная, ранняя эмоция, утренняя заря духа, все-таки проникнет в его стихотворения, то лишь после того, как она пройдет через горнило сложности, рефлексии, моральной усталости: это возвращается на родину блудный сын, но только нет у него уже той психологии, которая позволила бы ему встретить родину в ее наивной красоте, в ее младенческом обаянии. Может быть возвращенный рай, но не может быть возвращенного Адама: будет Адам уже не прежний, и мир будет расстилаться перед ним другой, и он потеряет своего Бога, перестанет молиться Ему в детской чистоте помыслов. Сологуб – именно поэт небожьего мира. Он утратил способность молитвы, и безнадежно пожелтели, закрылись для него когда-то заветные страницы молитвенника:
Опять сияние в лампаде,
Но не могу склонить колен.
Ликует Бог в надзвездном граде,
А мой удел – унылый плен.
С иконы темной безучастно
Глаза суровые глядят.
Открыт молитвенник напрасно:
Молитвы древние молчат, —
И пожелтелые страницы,
Заветы строгие храня,
Как безнадежные гробницы,
Уже не смотрят на меня.
Даже цветы в его стихотворении ропщут на себя за то, что они служат молебны и пред Господом ладан кадят: зачем курить благоухания земли, мировой ладан, Тому, Кто позабыл о мире и от творческих дел опочил?
Не хочет жизни Бог,
И жизнь не хочет Бога.
В противоположность Лейбницу Сологуб верит не в предустановленную гармонию, а в предустановленную дисгармонию. Ветхий Адам, человек безмерной старости, глубоких утомлений и томлений, он давно разочаровался в том, что, говоря его же словами, можно достигнуть земли, «вотще обетованной», обманно обетованной, что когда-нибудь пилигриму станет близок его святой Иерусалим. И в другую сторону от Иерусалима, вспять пошел Сологуб, поэт небожьего мира, жрец предустановленной дисгармонии. И потому искажена всякая любовь его, и злою силой, мечом отравленным пронзены у него каждое чувство и каждый образ. Он любит, например, детей, «блаженно-невинных детей», истоки жизни, и тихо напевает о них; но вслушайтесь, и это окажется «простою песенкой», страшно непростою песенкой о том, как
Под остриями
Вражеских пик
Светик убитый,
Светик убитый поник.
Маленький мальчик,
Миленький мой,
Ты не вернешься,
Ты не вернешься домой.
Били, стреляли,
Ты не бежал,
Ты на дороге,
Ты на дороге лежал.
Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил.
Маленький мальчик,
Миленький мой,
Ты не вернешься,
Ты не вернешься домой.
Когда он убаюкивает ребенка лунной колыбельной, то кажется, что у колыбели стоит Мефистофель и поет свою губительную серенаду, свое баюшки-баю о тех, про кого умалчивают детям и мать, и ангел-хранитель, о тех, кто не выдерживает жизни и топится в реке, о тех, кто «поникнет и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину». Или когда к младенцу придет сон, то сестра сна, та, имени которой не хочет называть Ночь в сказке Метерлинка, будет стоять у окна и шептать: «я приду», – усталая, больная, оттого что она целый день косила; значит, смерть больная, но не умирающая, смерть бессмертная, просит помощи у брата-сна, т. е. чтобы он за нее сделал ее дело и сам навеки усыпил ребенка; ибо завистливой вечности отдает ребенок ту каплю, которую он хотел было испить; не брезгает вечность отнимать у младенца и посылает за ним скорую смерть – недолго будет посланная дожидаться у окна: для ребенка умирающего так коротко расстояние между началом и концом, между альфой и омегой…
Сам одержимый смертью, всего детского и доброго на свете касающийся мертвым прикосновением, Сологуб окружен нечистой силой; вьются кругом него серые недотыкомки и всякая нежить, которую может сглазить человеческий глаз. И в трудные минуты жизненных катастроф поэт обращается к Дьяволу, царю нечисти и нежити:
Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, – я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей;
Я власти темного порока
Отдам остаток черных дней.
И Дьявол взял меня и бросил
В полуистлевшую ладью.
Я там нашел и пару весел,
И серый парус, и скамью.
И вынес я опять на сушу
В больное злое житие
Мою отверженную душу
И тело грешное мое.
И верен я, Отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И ты меня из бездны спас.
Тебя, Отец мой, прославлю,
В укор неправедному дню;
Хулу над миром я восславлю
И соблазняя соблазню.
Он сдержал свое слово, этот верный монах Дьявола. Он движется под знаком зла. Ему везде чудится оно, и только оно. Даже луна – это серп, который занесен над миром. Все грозит, все убивает, все дышит коварной смертоносностью. Оттого у Сологуба немного таких стихотворений, в которых не повторялось бы по нескольку раз, с утомительной и однообразной, как вся его поэзия, настойчивостью, слово злое. К людям и предметам, к природе и жизни, к осязательному и отвлеченному прилагает он этот неизменный, этот мрачной красотою украшающий эпитет. Но, в сущности, только потому на все другое испускает Сологуб его черные лучи, что сам он, сын Дьявола, – злой. От себя заключает он к остальному. Он уподобляет себя больной и злой змее; все тайное сделавший явным, все интимное – общим, откровенный до спокойного цинизма, он раскрывает злые пропасти своей души. Он любит блуждать над трясиною дрожащим огоньком, он любит за липкой паутиною таиться пауком, он любит летать в поле оводом и жалить лошадей, он любит быть явным, тайным поводом к мучению людей. Злой, больной, безумно мстительный, олицетворение тяжелой зависти ко всему и ко всем, ничего не благословляющий, усталый от самого себя, он, правда, томится и сам; он знает, что жизни и счастья не стоит.
Судьба дала мне плоть растленную,
Отравленную кровь,
Я возлюбил мечтою пленною
Безумную любовь.
Мои порочные томления,
Все то, чем я прельщен,
В могучих чарах наваждения —
Многообразный сон.
Но он томит больной обидою;
Идти путем одним
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #61
«Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы, они большей частью лишены, чужды живой образности, но зато проникнуты холодной красотою безнадежной мысли и жутким звоном звенит их отточенный клинок…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Федор Сологуб
Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы, они большей частью лишены, чужды живой образности, но зато проникнуты холодной красотою безнадежной мысли и жутким звоном звенит их отточенный клинок.
В самой форме человеческого стиха есть что-то мироутверждающее; стих сам по себе – это уже оптимизм, признание вечных ценностей и красоты; стихом приобщает себя поэт к изначальной гармонии сфер и в стройную музыку жизни привносит свою ноту, собою дополняет общий концерт бытия. Властитель ритма, слагатель рифм не только соглашается с творчеством Бога, но и продолжает его. На всяческую прозу, внешнюю и внутреннюю, мы вынуждены и обречены, ею говорим поневоле, в ней мы неповинны, и если удовлетворяемся ею, этим скудным орудием повседневности, то это и значит, что мы от мира ничего не хотим, ничего не ждем и только плетемся по дороге, на которую нас послало чье-то неведомое повеление. Проза – это сила инерции; проза – это покорность и пессимизм; с нее и нельзя много спрашивать; на ее языке говорят рабы, безропотные исполнители чужого поручения. Но если, не довольствуясь ею, ее отвергая, мы по собственному изволению начинаем писать стихи, то это значит, что мы благоговейно приняли мир, склонились молитвенно перед святынями его храма и готовы воспеть ему свои особые псалмы. Поэзия – это почин; но разве пессимист начинает, разве не в том его темная сущность, что он раз навсегда отказывается от инициативы и опускается в мертвые воды глубокого равнодушия? Пессимист не продолжает; его не влечет и не тешит новое, и потому его стихия – проза. Стихами же, в прозрении идеала, над миром духовно воздвигается мир другой. В них может быть, конечно, отчаяние, и скорбь, и насмешка, но в основе их непременно лежит утверждение, и самое ядро их – непременно живое. Ибо поэзия – это жизнь и проза – это смерть.
Вот почему замечательные стихотворения Сологуба производят сильное впечатление своей сокровенной противоречивостью: они – стихи смерти. Зачем понадобилась смерти поэзия? И то, что автор не механически слил, а, по крайней мере, сделал попытку синтезировать живое и мертвое, то, что у него с жизнью смерть переплела свои жесткие, свои жуткие нити, – это и составляет существенный признак его своеобразного творчества. И, может быть, именно потому в его стихотворениях есть неумолимая законченность; беспощадно сжаты, одновременно просты и торжественны, зловещи и скупы его четкие и умные строки, и он больше ни слова не скажет, не пояснит, избегает дополнений, и даже потенциально не открываются здесь дальнейшие перспективы – их и нет: все заклято, очерчено, заколдовано. Живое бесконечно, мертвое ограниченно. Законченности смерти не может одолеть никто.
В чертоге смерти у Сологуба нельзя искать первых элементарных чувств, поэтической свежести сердца. Если какая-нибудь первобытная, ранняя эмоция, утренняя заря духа, все-таки проникнет в его стихотворения, то лишь после того, как она пройдет через горнило сложности, рефлексии, моральной усталости: это возвращается на родину блудный сын, но только нет у него уже той психологии, которая позволила бы ему встретить родину в ее наивной красоте, в ее младенческом обаянии. Может быть возвращенный рай, но не может быть возвращенного Адама: будет Адам уже не прежний, и мир будет расстилаться перед ним другой, и он потеряет своего Бога, перестанет молиться Ему в детской чистоте помыслов. Сологуб – именно поэт небожьего мира. Он утратил способность молитвы, и безнадежно пожелтели, закрылись для него когда-то заветные страницы молитвенника:
Опять сияние в лампаде,
Но не могу склонить колен.
Ликует Бог в надзвездном граде,
А мой удел – унылый плен.
С иконы темной безучастно
Глаза суровые глядят.
Открыт молитвенник напрасно:
Молитвы древние молчат, —
И пожелтелые страницы,
Заветы строгие храня,
Как безнадежные гробницы,
Уже не смотрят на меня.
Даже цветы в его стихотворении ропщут на себя за то, что они служат молебны и пред Господом ладан кадят: зачем курить благоухания земли, мировой ладан, Тому, Кто позабыл о мире и от творческих дел опочил?
Не хочет жизни Бог,
И жизнь не хочет Бога.
В противоположность Лейбницу Сологуб верит не в предустановленную гармонию, а в предустановленную дисгармонию. Ветхий Адам, человек безмерной старости, глубоких утомлений и томлений, он давно разочаровался в том, что, говоря его же словами, можно достигнуть земли, «вотще обетованной», обманно обетованной, что когда-нибудь пилигриму станет близок его святой Иерусалим. И в другую сторону от Иерусалима, вспять пошел Сологуб, поэт небожьего мира, жрец предустановленной дисгармонии. И потому искажена всякая любовь его, и злою силой, мечом отравленным пронзены у него каждое чувство и каждый образ. Он любит, например, детей, «блаженно-невинных детей», истоки жизни, и тихо напевает о них; но вслушайтесь, и это окажется «простою песенкой», страшно непростою песенкой о том, как
Под остриями
Вражеских пик
Светик убитый,
Светик убитый поник.
Маленький мальчик,
Миленький мой,
Ты не вернешься,
Ты не вернешься домой.
Били, стреляли,
Ты не бежал,
Ты на дороге,
Ты на дороге лежал.
Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил.
Маленький мальчик,
Миленький мой,
Ты не вернешься,
Ты не вернешься домой.
Когда он убаюкивает ребенка лунной колыбельной, то кажется, что у колыбели стоит Мефистофель и поет свою губительную серенаду, свое баюшки-баю о тех, про кого умалчивают детям и мать, и ангел-хранитель, о тех, кто не выдерживает жизни и топится в реке, о тех, кто «поникнет и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину». Или когда к младенцу придет сон, то сестра сна, та, имени которой не хочет называть Ночь в сказке Метерлинка, будет стоять у окна и шептать: «я приду», – усталая, больная, оттого что она целый день косила; значит, смерть больная, но не умирающая, смерть бессмертная, просит помощи у брата-сна, т. е. чтобы он за нее сделал ее дело и сам навеки усыпил ребенка; ибо завистливой вечности отдает ребенок ту каплю, которую он хотел было испить; не брезгает вечность отнимать у младенца и посылает за ним скорую смерть – недолго будет посланная дожидаться у окна: для ребенка умирающего так коротко расстояние между началом и концом, между альфой и омегой…
Сам одержимый смертью, всего детского и доброго на свете касающийся мертвым прикосновением, Сологуб окружен нечистой силой; вьются кругом него серые недотыкомки и всякая нежить, которую может сглазить человеческий глаз. И в трудные минуты жизненных катастроф поэт обращается к Дьяволу, царю нечисти и нежити:
Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал: Отец мой, Дьявол,
Спаси, помилуй, – я тону.
Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей;
Я власти темного порока
Отдам остаток черных дней.
И Дьявол взял меня и бросил
В полуистлевшую ладью.
Я там нашел и пару весел,
И серый парус, и скамью.
И вынес я опять на сушу
В больное злое житие
Мою отверженную душу
И тело грешное мое.
И верен я, Отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И ты меня из бездны спас.
Тебя, Отец мой, прославлю,
В укор неправедному дню;
Хулу над миром я восславлю
И соблазняя соблазню.
Он сдержал свое слово, этот верный монах Дьявола. Он движется под знаком зла. Ему везде чудится оно, и только оно. Даже луна – это серп, который занесен над миром. Все грозит, все убивает, все дышит коварной смертоносностью. Оттого у Сологуба немного таких стихотворений, в которых не повторялось бы по нескольку раз, с утомительной и однообразной, как вся его поэзия, настойчивостью, слово злое. К людям и предметам, к природе и жизни, к осязательному и отвлеченному прилагает он этот неизменный, этот мрачной красотою украшающий эпитет. Но, в сущности, только потому на все другое испускает Сологуб его черные лучи, что сам он, сын Дьявола, – злой. От себя заключает он к остальному. Он уподобляет себя больной и злой змее; все тайное сделавший явным, все интимное – общим, откровенный до спокойного цинизма, он раскрывает злые пропасти своей души. Он любит блуждать над трясиною дрожащим огоньком, он любит за липкой паутиною таиться пауком, он любит летать в поле оводом и жалить лошадей, он любит быть явным, тайным поводом к мучению людей. Злой, больной, безумно мстительный, олицетворение тяжелой зависти ко всему и ко всем, ничего не благословляющий, усталый от самого себя, он, правда, томится и сам; он знает, что жизни и счастья не стоит.
Судьба дала мне плоть растленную,
Отравленную кровь,
Я возлюбил мечтою пленною
Безумную любовь.
Мои порочные томления,
Все то, чем я прельщен,
В могучих чарах наваждения —
Многообразный сон.
Но он томит больной обидою;
Идти путем одним
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0