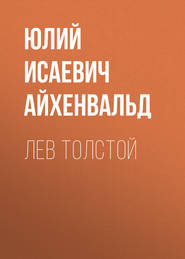По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чехов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чехов
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #11
«Вспоминается, что кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта. И тем не менее объяснить его, подвергнуть его страницы анализу очень трудно, потому что в своих рассказах, обнимающих все глубокое содержание жизни, он сплетал человеческие души из тончайших нитей и обвевал их почти неуловимым дыханием проникновенной элегии. Как один из его героев, живший в чудном саду, он был царь и повелитель нежных красок. Писатель оттенков, он замечал все малейшие трепетания сердца; ему был доступен самый аромат чужой души. Вот отчего нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам легчайшую ткань его произведений: это разрушило бы ее и мы сдунули бы золотистую пыль с крылышек мотылька. Чехова меньше чем кого-либо расскажешь: его надо читать…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов
Вспоминается, что кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта. И тем не менее объяснить его, подвергнуть его страницы анализу очень трудно, потому что в своих рассказах, обнимающих все глубокое содержание жизни, он сплетал человеческие души из тончайших нитей и обвевал их почти неуловимым дыханием проникновенной элегии. Как один из его героев, живший в чудном саду, он был царь и повелитель нежных красок. Писатель оттенков, он замечал все малейшие трепетания сердца; ему был доступен самый аромат чужой души. Вот отчего нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам легчайшую ткань его произведений: это разрушило бы ее и мы сдунули бы золотистую пыль с крылышек мотылька. Чехова меньше чем кого-либо расскажешь: его надо читать. И, читая, мы в дорогой и благородной простоте его строк впиваем в себя почти каждое слово, потому что оно содержит в себе художественный штрих наблюдательности, необыкновенно смелое и поэтичное олицетворение природы или вещей, удивительную человеческую деталь.
Он тем более держит читателя в плену своего тонкого письма, что психологическая сила скорби, которой оно проникнуто, своеобразна и велика.
…Нет, ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный звук.
Скорбь неотразима. Она всегда права. Когда радость придет к нам, можно ее не принять, и она исчезнет, вспугнутая горем, которое живет кругом и внутри каждого из нас. Но когда печаль, томная или тяжкая, постучится в наше сердце, оно непременно откроется для нее, и она обнимет нас и заговорит, и от ее прикосновения зарождаются слезы. Так именно подходит к сердцу Чехов: можно ли отказать ему в приеме? «Для ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы» – на чью душу не откинут тени эти слова и чья душа с ними не согласится?..
Для скорби Чехова характерно то, что сперва она звучала у него лишь робкою нотой задумчивой грусти и к ее преобладанию он пришел от яркого комизма, который, впрочем, никогда не покидал его и впоследствии. Чехов писал в «Осколках» и «Стрекозе». Он начал анекдотом и кончил тоской. Человек, который прежде так смеялся и так смешил, потом окутал жизнь траурной пеленой.
Конечно, по существу здесь нет ничего поразительного. Глубокому духу скоро открывается внутреннее сродство между смешным и скорбным, и Чехов только повиновался своей стихийной глубине. Несоответствие между идеей и ее проявлением в одинаковой степени может быть последним источником как смешного, так и трагического. Нелепые слова, которые не покрывают своих понятий, бессмысленные поступки, внезапные изменения хамелеона житейских ситуаций, когда, например, в странной группировке человеческих фигур встреча «толстого» и «тонкого» принимает столь неожиданный оборот, – все это вызывает улыбку. И она сама по себе является великой разрешительной силой и производит нравственно-просветляющее влияние. Но когда ненужное, нестройное, неблагообразное заполняет все поры существования, когда нелепица разрастается в несчастье и своей карикатурой вытесняет правильные линии жизни, тогда одного смех; уже недостаточно, и он естественно переходит в скорбь. Смех – это признак превосходства, силы, в нем есть нечто уверенное, и на вершинах Олимпа громовыми раскатам) звучал гомерический смех богов. Но боги могли смеяться над другими, над бедной землей и ее смертными обитателями, а мы обречены высмеивать только себя. В мире человеческом субъект и объект смешного совпадают. И горько нам дается ноша комика. Тяжелая драма – быть хотя бы тем смешным чиновником, который умер от генеральского гнева Смех очищает, и потому его признают за желанный и положительный момент духа; но смешное явление отрицательное, явление горестное. От великого до смешного – один шаг, и потому смешное печально. Так знаменательно, что физиологический смех на своей высоте разрешается в плач. За смешного человека обидно, потому что он – вырождение великого, вырождение человеческого. Как бы невинна ни была его комичность, но всякое смешное действие не есть ли все-таки посягательство и грех против Дела (im Anfang war die Tat[1 - в начале было Дело (нем.)]), и всякое смешное слово не есть ли посягательство и грех против Слова? Смешное не может быть сущностью человека, не может быть природой чего бы то ни было. Смешное временно, проникновенный взгляд идет дальше его. Как Поликрат боялся того постоянного праздника, который праздновала его душа, как он для умилостивления небесной зависти хотел печали, так и смеющийся почувствует наконец тревогу и раскаяние в том, что он забыл серьезное начало мира, и тем внимательнее и вдумчивее обратится он к серьезному. Смех – грех. Правда, улыбка не оставит нас, и в грусти, которая нас осенит, все же будет слышен свойственный ей слабый отголосок радости, сладости…
И Чехов обратился к серьезному. На чем бы ни останавливал он взгляд своих задумчивых глаз, все принимало для него очертания скорби. Мифический царь безумно выпросил себе у богов коварный дар своим прикосновением все обращать в золото: и золотым слитком становился для него хлеб насущный. Чехов такого дара не просил, он его не хотел, он жаждал радости и жизни, но поневоле претворял он жизнь в золото печали, в осеннее золото увядающих листьев. Даже чарующие картины, даже благословенное появление красоты разрешаются у него мелодией элегической. Дважды мелькнули перед ним прекрасные женские лица, но он испытывал «не желания, не восторг, а тяжелую, хотя и приятную грусть». Ему становилось жаль и самого себя, и красавицы, и тех, кто ее окружал, точно они навсегда «потеряли что-то важное и нужное для жизни»! Он смутно помнил, что «капризная красота осыпается как цветочная пыль», и он переживал то «особенное чувство», которое пробуждается в человеке от созерцания настоящей красоты. И никогда не покидало его это платоновское воспоминание, эта светлая печаль о далекой сфере идеала.
Воспоминание вообще, его чары и его муки важной гранью входят во все творчество Чехова, нередко образуют главный колорит и настроение его рассказов. Наши дни проходят, и, проходя, они оставляют в душе свои смутные, слитные образы, и человек – по свидетельству Чехова, особенно русский человек – любит вглядываться в эти реющие призраки былого, предпочитая их пестроте и шуму текущего дня. «Что пройдет, то будет мило» и будет ласкать и печалить своей невозвратимой прелестью. «Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплые ночи, пели соловьи, пахло сеном – и все это милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман… Где все оно?» «Все, что нравилось, ласкало, давало надежду, – шум дождя, раскаты грома, мысли о счастьи, разговоры о любви – все это становится воспоминанием», и впереди «ровная пустынная даль: на равнине ни одной живой души, а там на горизонте темно, страшно».
Если в роковом увядании нашей жизни воспоминание о молодых и ранних днях само по себе волнует и томит, то противоположность между счастьем прошлого и скорбью настоящего совсем уже разрывает сердце на части. И в ссылке, сырою, холодною ночью, на рыжем глинистом берегу ворчащей реки, неутешно рыдает молодой татарин, вспоминая свою родную Симбирскую губернию, свою Волгу, свою красивую, застенчивую жену, которая будет теперь «ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню». Или бессрочно-отпускной рядовой Гусев умирает в чуждых водах Тихого океана, и в бреду грезится ему родная деревня на севере («Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о сне и холоде!»), вспоминаются ему дети-племянники, катающиеся на санях, девочка Акулька, которая распахнула шубу и выставила ноги: «глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые»…
Сердце человека обречено на то, чтобы разрываться. Оно не только, по слову немецкого поэта, не имеет голоса в зловещем совете природы, но даже и вне стихии, в своих человеческих делах, бьется болью. Ибо жизнь, как она и отразилась в книгах Чехова, представляет собою обильный выбор всякого несчастия и нелепости. Чехов показал ее в ее смешном, в ее печальном, в ее трагическом обликах. У него есть ужасы внешнего сцепления событий, капризные и страшные выходки судьбы; у него еще больше незаметного внутреннего драматизма, имеющего свой источник хотя бы в тяжелом характере человека, – например, в злобной скуке того мужа, который запретил своей жене танцевать и увез ее домой в разгаре веселого уездного бала. Вообще, вовсе не должна разразиться какая-нибудь особая катастрофа или тяжелая «воробьиная ночь» жизни, вовсе не должна произойти исключительная невзгода, для того чтобы сердце исполнилось тоски. Чехов занят больше статикой жизни и страдания, чем их бурной динамикой. В самом отцветании человеческой души, в неуклонном иссякновении наших дней, таится уже для него горький родник страдания, и разве это не горе, что студент Петя Трофимов, недавно такой цветущий и юный, теперь носит очки, и смешон, и невзрачен и все говорят ему: «отчего вы так подурнели? отчего постарели?»…
И страница за страницей, рассказ за рассказом тянется эта безотрадная панорама, и когда полное собрание сочинений Чехова, в таком странном соседстве с «Нивой», впервые сотнями тысяч экземпляров проникло в самые отдаленные углы русского общества и сотни тысяч раз повторилась участь рядового Гусева, под которого нехотя и лениво подставляет свою пасть акула, – тогда многие, вероятно, лишний раз почувствовали испуг и недоумение перед кошмаром обыденности. Вот, например, люди сидят и играют в лото, и вдруг раздается выстрел – это лопнуло что-нибудь в походной аптеке или это разбилось человеческое сердце?..
И есть даже на первый взгляд что-то непривлекательное в той меланхолической равномерности, в той привычке, с которою Чехов один за другим выпускал свои темные снимки мира. Без конца – только смерть положила конец – он рисовал эти страшные образы, и его глаза, раскрытые на ужас, как будто сами не ужаснулись, только отуманились. Если видишь то, что видел Чехов, нельзя быть спокойным. Хочется криком отчаяния прорезать эту невозмутимую тишину, это бесстрастие, с которым художник тщательно и мастерски воспроизводит бесконечные перспективы страдания, всю человеческую муку. Если мир таков, то с ним нельзя примириться, и надо биться головой об этот «унылый, окаянный» серый забор с гвоздями, который окружает не только палату N 6, но и всю земную действительность. «Человеческий талант», «тонкое, великолепное чутье к боли», соприкосновение ужасу – все это обязывает; исполнил ли Чехов свое обязательство? Студент Васильев, когда увидал «живых женщин», которых продают, покупают, убивают, перенес мучительный припадок, – он рыдал, терзался, он едва не сошел с ума: острой болью охватило его недоуменье перед равнодушной неправдой жизни, перед спокойствием этого снега, который своими белыми, молодыми пушинками так же весело падает в развратный переулок, как и во все остальные улицы мира. Но затем товарищи, которые советовали ему «объективно смотреть на вещи», и «полный, белокурый» доктор, прописавший ему бромистый калий, успокоили, вылечили его; полегчало Васильеву, и он «лениво поплелся к университету». Он будет теперь вообще лениво плестись по жизни, и больше с ним не случится припадка, больше он не будет в отчаянии. Он привыкнет, как это и рыдавшему в ссылке татарину жестоко предсказывал его привыкший товарищ. Если Васильев – из лучших, он уже не станет сам ходить в ужасный переулок, который он проклинал, но все же будет свидетелем того, как ходят в него другие и как «смоленские бухгалтеры» посылают в него все новые и новые партии женщин. И даже в общем тексте чеховского миросозерцания можно прочесть, что и сам Васильев, пожалуй, в позорный переулок еще и еще пойдет… Он привыкнет.
И мы прокляли бы, трижды прокляли бы «замену счастья», миролюбивую привычку, если бы это только она тушила в людях припадки сострадания, настороженную впечатлительность к добру и злу. Но то, что сохраняет людей для мира, и то, что сохранило в Чехове спокойствие, необходимое для поэтического творчества, это в конечном основании – та могущественная сила жизни, любви и света, которая побеждав и рассеивает все тягостные фантомы ночи. Не бесследно, не даром каждый день восходит солнце. Только врожденная привязанность к солнцу, источнику живого, только неисчерпаемый запас его, живущий в человеке, и может объяснить, почему Чехов, почему другие писатели скорби впитали ее в себя, но не изнемогли от нее. Любовь сильнее смерти. И она, любовь, просвечивает сквозь ту объективную строгость, в какую облекает Чехов свои произведения. Он часто рассказывает неумолимо и холодно – вспомните, например, поразительный тон «Старого дома». Но этим художник только дает свой суровый ответ суровой действительности, которой он не хочет сдаваться. Он словно говорит ей: «Ты насылаешь горести и несчастья, ты смеешься и коварно сплетаешь для людей такие сети ужасов, от которых стынет кровь в жилах, но я не буду сетовать и содрогаться, и я поведаю об этом спокойно. Того, что происходит в глубине моего сердца, я не покажу тебе: это не твоя забота, не твое дело. Быть может, в меня и в моих ближних, как в Лаокоона, впиваются твои змеи, но я останусь спокоен, как это подобает художнику, подобает творцу. И если тени и тени ложатся на мое бледнеющее лицо, это не твоя забота, не твое дело. Я буду спокоен до последнего дыхания и без жалоб и слез расскажу о тебе другим. Ты меня не удивишь, и я мужественно приму твои отравленные дары, твои смертоносные удары: величие моего сознания и моей художественной мощи я противопоставлю твоей жестокости». Под слоем этого эпического спокойствия дышит, однако, глубокий, целомудренный лиризм, и даже он сказывается иногда в самой форме изложения, в каком-нибудь сочувственном восклицании: «о, какая суровая, какая длинная зима!» Вообще, удивительное сочетание объективности и тонко-интимного настроения составляет самую характерную и прекрасную черту литературной манеры Чехова – этих сжатых рассказов, где осторожными прикосновениями взята лишь эманация человеческого, где оно звучит лишь своею «музыкой». К традиции нашего реализма примыкает Чехов, к плеяде наших великих писателей; но, чуткий и честный, не искажая реальности, он, однако, освещает ее больше изнутри, касается ее интимно, берет от жизненных фактов только их лирическую квинтэссенцию. Мир остается миром, подлинный вид его не изменяется – лишь накинута на него дымка впечатлений, и потому как будто улетучилась или, по крайней мере, утончилась его материальная суть, его грубая вещественность, и владеет нами почти одна духовная стихия, прозрачная и чистая, исполненная звуков Эоловой арфы. Элегическое одухотворение действительности не навязчиво здесь, и целомудрен и деликатен лиризм писателя; но бесспорно, что состоянию своего человеческого и авторского духа все же подчиняет Чехов и самые натуры своих героев, и их поступки, и все вообще житейские положения. Он выбирает, он собою окрашивает, собою обусловливает картину быта, психологию людей, и не всегда последняя необходима у него, не всегда господствует закон достаточного основания. Однако не сетует читатель на произвол рассказчика – наоборот, он всецело проникается его настроением, приобщается своей субъективностью к его субъективности, так что уже совпадает с нею сама объективность, и не судишь милого победителя, и Чехову не сопротивляешься.
Он вообще обладает неотразимой силой, этот, казалось бы, хрупкий и хрустальный лирик-реалист. Ему довольно миниатюры, двух строчек, набросанных в записной книжке, для того чтобы уже открылись перед нами целые перспективы характеров и судеб. «Жена рыдала. Муж взял ее за плечи, встряхнул, и она перестала плакать» – разве этого не достаточно, разве это не готовое художественное произведение? Свои афоризмы, свои сжатые изречения имеет не только мысль, но и искусство. Впрочем, и сам Чехов иногда мог бы кончить, поставить точку раньше, чем он ее ставит. Но в общем он – мастер литературного афоризма, художник-скупец. В своей нерасточительности и простоте он вместе с тем не отличается особенной густотою и насыщенностью слов: легко он пишет, легко его читать, и не как ношу, а как легкую радость берешь его в свое сознание. Он незаметен. Между тем даже интонация его фраз полна содержательности и как-то по-особому настраивает; самые фамилии его персонажей так убедительны и характерны – все эти Розалия Осиповна Аромат, провизор Проптер, актриса Гитарова, еврей Чепчик, жандармский унтер-офицер Илья Черед, М. И. Кладовая, Благовоспитанный, «маленький крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр»…
«Однозвучный жизни шум» томил Чехова, и он воспроизвел ею в своем художественном отклике. Эта жизнь часто грезилась ему в виде движения или дороги: приходят и уходят поезда, уезжают, приезжают люди, посещая, покидая свои усадьбы, дома с мезонинами, новые дачи; мелькают города и станции, звенят колокольчики. Иногда жизненная поездка весела, отрадна, сулит что-то в будущем, но чаще она обманывает. Алехин долго таил от любящей и любимой женщины свое чувство, и вот наконец он признается ей в своей любви, и целует ее, и плачет («О, как мы были с нею несчастны!»), и с жгучей болью в сердце понял он, как ненужно и мелко было все то, что мешало им любить друг друга, – но уже поздно, поздно, и через мгновенье поезд унесет ее далеко, умчит навеки; жизнь двинется дальше, она не ждет, и первый поцелуй останется последним. Сладкое счастье любви уже так близко коснулось другого молодого путника, и он уже обнял женщину, очарованную его белокурой головой, – но властно зовет его жизненное путешествие, у двери показался ямщик, и надо из теплой комнаты опять двигаться в снежную дорогу, под завывание метели, и вот уже «лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки». Над юношей насмеялась жизненная поездка, как насмеялась она в родном углу над Верой, которую поглотило «спокойное зеленое чудовище степи». И в той же степи, на затерянном полустанке, тоскует свидетель чужого передвижения, человек, которому некуда ездить и перед которым «женщины мелькают только в окнах вагонов, как падающие звезды». А сельская учительница, быть может, символ всей русской интеллигенции, знающая только одну дорогу – от школы до города, постаревшая, огрубелая, измученная своей жизнью в избе, где от сырости потускнела даже фотография матери, единственный остаток лучших дней, – учительница едет, едет весенним бездорожьем на тряской подводе, и лошадь входит в реку, холодную, быструю, мутную; резкий холод пронизывает Марью Васильевну, калоши и башмаки полны воды, платье и шубка мокры, подмочены сахар и мука. А на железнодорожном переезде опущен шлагбаум: со станции идет-мчится ликующий, счастливый курьерский поезд. Марья Васильевна, дрожа всем телом от холода, смотрит на его окна, отливающие ярким светом, «как кресты в церкви». «На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбою: мама! И заплакала, неизвестно отчего… Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была Учительницей, то был длинный, тяжелый, страшный сон, а теперь она проснулась… И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу».
Умчался курьерский поезд, рассеялся призрак матери, призрак былого счастья, и едет, едет учительница на тряской подводе в свою школу, где ее ожидает грубый сторож, который бьет детей, и грубый попечитель, которого надо умолять о присылке дров. Умчался курьерский поезд, и опять «длинной вереницей, один за другим, как дни человеческой жизни» тянутся вагоны товарные, и как будто нет им числа, нет конца этой медленной «гусенице». На дороге жизни, между прочим, интересуют Чехова люди чужого движения, те, которых посылают, которые заняты делом не своим. Характерно, что у него часто выступают лишенные «обыкновенного, пассажирского счастья» почтальоны, кондуктора, сотские – все эти обреченные на движение ради других. Они в большинстве относятся к разряду хмурых людей, они сердятся – «на кого они сердятся: на нужду, на людей, на осенние ночи?»; они бесчувственны к разговору, у них холодная кровь и неприветливая душа, как неприветливо осеннее утро, когда солнце восходит «мутное, заспанное, холодное». Эти скитальцы жизни, которым говорят: «хлеб твой черный, дни твои черные», эти перекати-поле и странники, идущие, бредущие, вечные путники – они привидением встают перед своими более счастливыми братьями, и, например, судебному следователю Лыжину ночью, в теплом доме, грезится, что по снежной поляне идут, поддерживая друг друга, старый сотский и земский агент, прекративший самоубийством свое бесцельное жизненное движение, свое тяжелое жизненное сновидение; они идут, соединенные общностью человеческой судьбы, и вместе поют какую-то жуткую песнь: «Мы идем, мы идем, мы идем… Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу… Мы не знаем покоя, не знаем радостей… Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей… У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем»…
Но в каких бы формах ни совершалось движение людей – будет ли оно свое или чужое, отраженное, каждый из его участников одинаково несчастен, и недаром в сновидении Лыжина в одну пару соединены сотский и самоубийца, нищий физический и нищий духовный. Все несчастны, и все чувствуют себя в мире безнадежно одинокими, как одинок в степи зеленый тополь. И не всегда он даже зеленый: осенью он переживает, обнаженный, страшные ночи, «когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра»; а зимою, покрытый инеем, «как великан, одетый в саван», он глядит сурово и уныло на одинокого путника, точно понимает и собственное одиночество. Именно тогда, когда жизнь срывает с нас зеленую листву молодости и человеку, «как это ни странно», оказывается уже «пятьдесят один год», – тогда особенно думаешь не только о том, что всякая душа – сирота, но и о том «одиночестве, которое ждет каждого из нас в могиле», и тогда «звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, гнетут душу своим молчанием». Равнодушный, однообразный, глухой шум моря, раздававшийся и тогда, «когда еще не было ни Ялты, ни Ореанды», говорит «о покое, о вечном сне, какой ожидает нас». В бессонные ночи думается о холоде смерти; «и потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминают почему-то только о том, что жизнь уже прошла; что не вернешь ее никак». Чужое одиночество сознает даже чуткая душа ребенка, и, когда над Егорушкой в «Степи» склонилась прекрасная графиня Драницкая, «ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме».
Самое печальное в жизни, в уходящей жизни, это – нравственное опустошение, которое она производит в нас самих. Мы обманули собственные прекрасные надежды и обещания; потускнели все впечатления бытия, опошлились и поблекли наши чувства, и духовная старость оледенила все пылкие стремления, все благородные замыслы. Каждый раз природа опять чиста и нова, и утром так свеж росистый сад, а наше человеческое утро исчезает навсегда, и нет обновления усталому сердцу. И как это грустно смотреть на белый вишневый сад, на длинную аллею, которая блестит в лунные ночи, и думать о том, что детство и чистота улетели навеки, и грезить о том, что «покойная мама идет по саду в белом платье», – но нет, это не мама, это «склонилось белое деревцо, похожее на женщину». «О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, и тогда уж он был точно таким, ничего не изменилось. Весь, весь белый. О, сад мой!.. Опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди и плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»
Ангелы небесные не покидают вишневого сада, и к саду возвращается его белая молодость, его чистая весна. Но невозвратимо белое человека. И сознание его утраты налагает свою тень на всю дальнейшую жизнь. Белые цветы вишневого сада и призрачная мама в белом платье оттеняют все, что есть темного в душе у Раневской, и горько и постыдно ей думать о Париже, о том, что в нем было и что еще будет. Чистота умерла. Но, может быть, после того как умрет и сама Раневская, на ее могиле, как и над бедной героиней «Старости», будет стоять «маленький белый памятник» и будет смотреть на прохожих «задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежит девочка, а не распутная, разведенная жена»?..
Чистота, белое умирает, и жутко и стыдно человеку заглядывать в глубину совести. Ведь Страшный суд – собственный суд. Вот – Лаевский, герой «Дуэли». «Он вспомнил, как в детстве во время грозы он выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами и их мочил дождь, они хохотали от восторга; но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: „Свят, свят, свят!“ О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, Бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки и, живя среди живых… только разрушал, губил и лгал, лгал…»
«Молодой, только что окончивший филолог приезжает домой в родной город. Его выбирают в церковные старосты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовен, думая, что так нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей – и не заметил, как исполнилось ему 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но уже переменять жизнь было поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: „Что вы делаете?“ – и он вскочил весь в поту…»
Раневская, Лаевский и все падшие имеют еще силы переносить самих себя. Но семнадцатилетний юноша Володя себя не перенес. То нечистое, что в него проникло, наполнило его острым стыдом, и его убил этот стыд перед собою, перед пошлостью родной матери, перед пошлостью любимой женщины, очарование которой исчезло в несколько мгновений. Он видел солнечный свет и слышал звуки свирели; солнце и свирель говорили ему, что «где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая, – но где она?». И только вспомнились Володе Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он когда-то бегал по песку. И те же девочки, олицетворение всего чистого и прекрасного, вероятно, пронеслись в его угасавшем воображении, когда он спустил курок револьвера и полетел в какую-то «очень темную, глубокую пропасть».
Так должен был Володя прервать короткую нить своих искаженных дней; но Чехов и вообще показал, как рано блекнут наши дети. Он любит ребенка; он ласково держит его за руку и глубоко, с доброй улыбкой заглядывает в его маленькую душу. И есть нечто прекрасное и трогательное в этой группе: Чехов и ребенок. Глаза, уже оскорбленные и утомленные жизнью, светящиеся вечерним светом юмора и печали, – и глаза, на жизненное утро только что раскрывшиеся, всему удивленные и доверчивые. Но много печальных страниц посвятил Чехов описанию того, как «невыразимо пошлое влияние гнетет детей и искра Божья гаснет в них и они становятся похожими друг на друга мертвецами». Искра Божья гаснет в детском сердце, потому что оно в испуге и недоумении сталкивается с пошлостью взрослого человека, с драмою жизни. Не только гибнут Варька и Ванька, которым спать хочется и есть хочется и которые напрасно взывают о защите к своему и к мировому дедушке, но и те дети, которые вырастают в обеспеченной среде, морально погибают, зараженные неисцелимой пошлостью. И когда-то нежные, кудрявые, мягкие, как их бархатные куртки, они сделаются сами взрослыми людьми, и когда мертвые похоронят своих мертвых и равнодушный оратор произнесет над ними свою нелепую речь, они, эти новые отпрыски старых корней, пополнят собою провинциальную толпу человечества и станут жителями чеховского города, продолжающего традиции города гоголевского.
Если бы нас пристально блюла только чистая печаль, если бы страдание человеческое было благородно, то душа принимала бы их не оскорбляясь. «На катке он гонялся за Л., хотелось догнать, и казалось, что это он хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени». Вот с тем, что нельзя уже догнать Л. и дней своих, невозвратимо ускользнувших на катке жизни мы в грустном смирении, в покорном отречении мирились бы и находили бы даже своеобразную красоту в своем осеннем увядании. Но есть ненужное и оскорбительное горе жизни, есть унижающая бессмыслица, есть огромная власть и засилие вздора; и вот эта нравственная пыль горшей мукой мучила Чехова и внушала ему безрадостные страницы – эпопею человеческой нелепости. Именно – всечеловеческой, а не только русской, пусть и носит она определенные родные названия, пусть и гласит у него в записной книжке один набросок: «Торжок. Заседание думы. О поднятии средств городских. Решение: пригласи папу римского перебраться в Торжок – избрать его резиденцией»… Глупость международна. В ее державе, в нравственной провинции мира, в ее русском районе, нет ни одного честного, ни одного умного человека, «ни одного музыканта, ни одного оратора, или выдающегося человека», «ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой глупость, бездарность», и бездарные архитекторы безвкусных домов строят здесь клетки для мертвых душ, и на все налегает грузная, безнадежная, густая пелена обыденности. И пошлость, как спрут, обвивает каждого, и часто нет никаких сил бороться против ее насилия. По слову Тютчева, пошлость людская бессмертна; но, сама бессмертная, она мертвит все, к чему ни прикасается. Она останавливает живое творчество духа, она силой бездушного повторения обращает в механизм и рутину то, что должно бы быть вечно новое, свежее, первое. Остановка духа именно потому и оскорбительна, что подвижность составляет самое существо его. От пошлости стынут и гаснут слова, чувства, мысли; она заставляет людей употреблять одне и те же фразы и прибаутки, из которых вынуты понятия; она заставляет тяжело переворачивать в уме одне и те же выдохшиеся идеи, и все цветы жизни, весь сад ее, она претворяет в нечто искусственное, бумажное, безуханное. Особенно мертво то, что притворяется живым, и пошлое тем ужаснее, что выдает себя за живое. Оно считает себя правым, оно не сознает своей мертвенности и самодовольно, без сомнений, распоряжается в подвластной ему широкой сфере.
Оттого пошлость и была лютым врагом изящного, безостановочно-духовного и творческого Чехова. В течение всей своей недолгой жизни он, как писатель, боролся с нею; она гналась за ним по пятам, и он постоянно слышал за собою ее тяжелое дыхание. Ее не избыть, от нее не оградиться.
Вот на святках мать диктует Егору, отставному солдату, письмо к дочери и зятю, и она хочет, страстно хочет излить все свои лучшие материнские чувства, послать свое благословение, сказать самые ласковые, дорогие, заветные слова, а Егор, «сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, сидит на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком», сидит и пишет – что он пишет! «Въ настоящее время, какъ судьба ваша черезъ себ определила на Военое Попрыще, то мы Вамъ советуемъ заглянуть въ Уставь Дисциплинарныхъ взысканiй Уголовныхъ Законов Военаго Ведомства, и Вы усмотрите въ ономъ Законе цывилизацiю Чинов Военаго Ведомства»…
Вот пишут любовное письмо и прилагают на ответ марку… Вот Андрей, «охваченный нежным чувством», сквозь слезы говорит своим сестрам, своим трем сестрам: «Милые мои сестры, чудные мои сестры! Маша, сестра моя», – а в это время растворяется окно и выглядывает из него… пошлость, выглядывает Наташа, и кричит: «Кто здесь разговаривает так громко?.. II ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormee deja. Vous etes un ours»[2 - Не шумите, Софи уже уснула. Вы медведь (фр.)].
Вот идет архитектор под руку с дочерью, светлой девушкой, и говорит ей о звездах, о том, что даже самые маленькие из них – целые миры, и при этом он указывает на небо тем самым зонтиком, которым давеча избил своего взрослого сына.
Безутешна мать, у которой убили единственного ребенка; но священник, «подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: „Не горюйте о младенце. Таковых есть царство небесное“»…
«Мама, Петя Богу не молился!» Петю будят, он молится и плачет, потом ложится и грозится кулаком тому, кто пожаловался.
И для многих университетов характерно «мнение профессора: не Шекспир главное, примечания к нему». Как писатель Чехов от этого последнего облика пошлости, от этого предпочтения тексту примечаний, особенно страдал и при жизни, и посмертно…
Вообще, пошлость разнообразна. Ее не перечислишь, ее не уловишь.
Только от девушек веет нравственною чистотою, и многие сохраняют ее навсегда; прекрасные женские образы встают перед нами в произведениях Чехова, обвеянные лаской, какой они не знали со времен Тургенева, – эти тоскующие чайки, которых убили, эти женщины, которых разлюбили, эта Катя из «Скучной истории»: она прежде смеялась так весело и бархатно, потом жизнь смяла ее, и она уж больше не смеялась… И, может быть, среди них, в кругу милых трех сестер, которые стали нашими общими сестрами, около некрасивой и обаятельной Полины Рассудиной из «Трех лет», Анюты из «Моей жизни», и Ани из «Вишневого сада», и Душечки, меркнут все эти попрыгуньи, супруги и Ариадны, напоминающие своей холодной любовной речью «пение металлического соловья», и барышни, которые в письмах выражаются так: «мы будем жить невыносимо близко от вас», и эти же барышни, которых имел в виду Чехов, когда давал свой горький совет: «если боитесь одиночества, то не женитесь… я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными», и эта дочь профессора, которая когда-то девочкой любила мороженое, а теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость…
Обыватели пошлого города, граждане всесветной глуши или уживаются, мирятся с обыденностью, и тогда они счастливы своим мещанским счастьем, или они подавлены ею, и тогда они несчастны, тогда они – лишние, обойденные. Но большинство счастливы, и на свете, в сущности, очень много довольных людей, и это на свете печальнее всего. В тишине вялого прозябания они мечтают о своем крыжовнике – и получают его; кислыми ягодами крыжовника отгораживаются они от остального мира, от мира страдающего, и не стоит у их дверей человек с молоточком, который бы стучал, стучал и напоминал об окружающей неправде и несчастье. Были и есть люди с великими молоточками слова – Чехов принадлежит к их благородному сонму; из-за них человечество не засыпает окончательно, убаюканное шумом тусклых дней, довольное своим крыжовником. Но многие, очень многие сидят в своих футлярах, и никакое слово не пробудит их от вялой дремоты. Они робки и боятся жизни в ее движении, в ее обновлении.
Впрочем, страх перед нею, перед тем, что она «трогает», конечно, еще не влечет за собою нравственного падения. В русской литературе есть классическая фигура человека, который путался жизни, бежал от нее под защиту Захара, на свой широкий диван, но в то же время был кроток, нежен и чист голубиной чистотою. Пена всяческой низменности клокотала вокруг Обломова, но к нему не долетали ее мутные брызги. А Беликов, который тоже смущался и трепетал перед вторжением жизни, из-за этого впадал не только в пошлость, но и в подлость. И вот почему на могилу Обломова, где дружеская рука его жены посадила цветущую сирень, русские читатели до сих пор совершают духовное паломничество, а Беликова, читаем мы в рассказе, приятно было хоронить. Правда, Чехов совсем не убедил нас, что ославленный учитель греческого языка должен был в силу внутренней необходимости от своего страха перейти к доносам и низости. Этого могло ведь и не быть, это необязательно. Вообще, не без вульгарного оттенка издеваясь над тем, что Беликов умиленно произносил чудные для его слуха греческие слова, рассказчик совсем упустил из виду то мучение, которое должен был переносить человек, всего боявшийся и страдавший бредом преследования; в этом смысле «Человек в футляре» – произведение слабое. Но зато на многих других страницах Чехов, к сожалению, слишком убедительно показал своих горожан в презренном ореоле трусливости и мелочного приспособления к требованиям властных людей и обстоятельств.
А те, кто не приспособляется, тоскливо бредут по жизни, которая кажется им скучной и грубой историей, сменой однообразий, каким-то нравственным «третьим классом» или городом Ельцом, где «образованные купцы пристают с любезностями».
Они тащат свою жизнь «волоком, как бесконечный шлейф». И все, как приспособленные, так и неприспособленные, не живут, а превращают свою жизнь в медленные, длительные похороны самих себя. В длинном кортеже дней только и делают они, что приближаются к могиле.
Уныние неприспособленных чеховских героев многие критики склонны объяснять характером русских восьмидесятых годов прошлого века. Но трудно этим истолкованием удовольствоваться, потому что Чехова и его тоску можно представить себе в любое время, в любую, хотя бы и самую героическую, эпоху. Недаром Глеб Успенский, судья очень компетентный, не хотел признавать Иванова типичным восьмидесятником Возможно и вероятно только то, что угнетенное общественное настроение, какое царило тогда в иных кругах интеллигенции, более или менее отразилось в душе и творчестве Чехова. Но было бы странно приписывать чеховской скорби только этот, случайный и временный, характер и отказывать ей в более глубокой, общепсихологической основе.
Нам кажется, что лишних людей Чехова и его самого в конечном основании удручал, безотносительно к особенностям русской жизни, закон вечного повторения, этот кошмар, который преследовал и Ницше. Все в мире уже было, и многое в мире, несмотря на истекшие века, осталось неизменным. Остались неизменными горе и неправда, и в спокойное зеркало вселенной как бы смотрится все та же тоскующая мировая и человеческая душа. Под глубоким слоем пепла лежали сожженные лавой древние Геркуланум и Помпеи, но под этой пеленою картина прежней жизни осталась такою же, как ее захватила как ее остановила текучая лава. Так, и под слоем всех новшеств и новинок, каких приобрело себе человечество, Гамлет-Чехов видит все то же неисцелимое страдание, как оно было и в то «бесконечно-далекое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом».
Самая беспрерывность и повторяемость людских происшествий уже налагает на них, в глазах Чехова, отпечаток пошлого. Праздничная атмосфера счастья и весны окружает у Толстого девушку-невесту, Кити Щербацкую или Наташу Ростову; а чеховской невесте говорят слова любви, но сердце ее остается холодно и уныло, и ей кажется, что все это она уже очень давно слышала или читала где-то в романе, в старом, оборванном, заброшенном романе. Она, тоскуя, проводит бессонные ночи, и ей невыносима эта вновь отделанная квартира, ее будущее жилище, эта обстановка и картина известного художника, которую самодовольно показывает ей счастливый жених.
Что же? Быть может, в самом деле человечество состарилось, и, хотя всякий живет за себя, начинает свою жизненную дорогу сызнова, все же на каждом из наших состояний, на каждом событии нашего душевного бытия, лежит отпечаток того, что все это уже было и столько невест уже испытало свое весеннее чувство? Быть может, в глубине нашей бессознательной сферы созрел ядовитый плод усталости и плечи седого человечества утомились грузом истории, тяжестью воспоминаний? Быть может, в самом деле мир истрепался, побледнел и мы, наследники и преемники бесчисленных поколений, уже не имеем силы воспринимать настоящее во всей свежести и яркой праздничности его впечатлений?
Кто знает? Несомненно, что здесь Чехов подходит к самым пределам человеческой жизни в ее отличии от природы. Каждая весна, которая «в условный час слетает к нам светла, блаженно равнодушна», сияет бессмертием и не имеет «ни морщины на челе». О ней говорит глубокий Тютчев:
Цветами сыплет над землею,
Свежа как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она.
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #11
«Вспоминается, что кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта. И тем не менее объяснить его, подвергнуть его страницы анализу очень трудно, потому что в своих рассказах, обнимающих все глубокое содержание жизни, он сплетал человеческие души из тончайших нитей и обвевал их почти неуловимым дыханием проникновенной элегии. Как один из его героев, живший в чудном саду, он был царь и повелитель нежных красок. Писатель оттенков, он замечал все малейшие трепетания сердца; ему был доступен самый аромат чужой души. Вот отчего нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам легчайшую ткань его произведений: это разрушило бы ее и мы сдунули бы золотистую пыль с крылышек мотылька. Чехова меньше чем кого-либо расскажешь: его надо читать…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов
Вспоминается, что кончина Чехова произвела на многих впечатление семейной потери: до такой степени роднил он с собою, пленяя мягкой властью своего таланта. И тем не менее объяснить его, подвергнуть его страницы анализу очень трудно, потому что в своих рассказах, обнимающих все глубокое содержание жизни, он сплетал человеческие души из тончайших нитей и обвевал их почти неуловимым дыханием проникновенной элегии. Как один из его героев, живший в чудном саду, он был царь и повелитель нежных красок. Писатель оттенков, он замечал все малейшие трепетания сердца; ему был доступен самый аромат чужой души. Вот отчего нельзя, да и грешно разбирать по ниточкам легчайшую ткань его произведений: это разрушило бы ее и мы сдунули бы золотистую пыль с крылышек мотылька. Чехова меньше чем кого-либо расскажешь: его надо читать. И, читая, мы в дорогой и благородной простоте его строк впиваем в себя почти каждое слово, потому что оно содержит в себе художественный штрих наблюдательности, необыкновенно смелое и поэтичное олицетворение природы или вещей, удивительную человеческую деталь.
Он тем более держит читателя в плену своего тонкого письма, что психологическая сила скорби, которой оно проникнуто, своеобразна и велика.
…Нет, ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный звук.
Скорбь неотразима. Она всегда права. Когда радость придет к нам, можно ее не принять, и она исчезнет, вспугнутая горем, которое живет кругом и внутри каждого из нас. Но когда печаль, томная или тяжкая, постучится в наше сердце, оно непременно откроется для нее, и она обнимет нас и заговорит, и от ее прикосновения зарождаются слезы. Так именно подходит к сердцу Чехов: можно ли отказать ему в приеме? «Для ощущения счастья обыкновенно требуется столько времени, сколько его нужно, чтобы завести часы» – на чью душу не откинут тени эти слова и чья душа с ними не согласится?..
Для скорби Чехова характерно то, что сперва она звучала у него лишь робкою нотой задумчивой грусти и к ее преобладанию он пришел от яркого комизма, который, впрочем, никогда не покидал его и впоследствии. Чехов писал в «Осколках» и «Стрекозе». Он начал анекдотом и кончил тоской. Человек, который прежде так смеялся и так смешил, потом окутал жизнь траурной пеленой.
Конечно, по существу здесь нет ничего поразительного. Глубокому духу скоро открывается внутреннее сродство между смешным и скорбным, и Чехов только повиновался своей стихийной глубине. Несоответствие между идеей и ее проявлением в одинаковой степени может быть последним источником как смешного, так и трагического. Нелепые слова, которые не покрывают своих понятий, бессмысленные поступки, внезапные изменения хамелеона житейских ситуаций, когда, например, в странной группировке человеческих фигур встреча «толстого» и «тонкого» принимает столь неожиданный оборот, – все это вызывает улыбку. И она сама по себе является великой разрешительной силой и производит нравственно-просветляющее влияние. Но когда ненужное, нестройное, неблагообразное заполняет все поры существования, когда нелепица разрастается в несчастье и своей карикатурой вытесняет правильные линии жизни, тогда одного смех; уже недостаточно, и он естественно переходит в скорбь. Смех – это признак превосходства, силы, в нем есть нечто уверенное, и на вершинах Олимпа громовыми раскатам) звучал гомерический смех богов. Но боги могли смеяться над другими, над бедной землей и ее смертными обитателями, а мы обречены высмеивать только себя. В мире человеческом субъект и объект смешного совпадают. И горько нам дается ноша комика. Тяжелая драма – быть хотя бы тем смешным чиновником, который умер от генеральского гнева Смех очищает, и потому его признают за желанный и положительный момент духа; но смешное явление отрицательное, явление горестное. От великого до смешного – один шаг, и потому смешное печально. Так знаменательно, что физиологический смех на своей высоте разрешается в плач. За смешного человека обидно, потому что он – вырождение великого, вырождение человеческого. Как бы невинна ни была его комичность, но всякое смешное действие не есть ли все-таки посягательство и грех против Дела (im Anfang war die Tat[1 - в начале было Дело (нем.)]), и всякое смешное слово не есть ли посягательство и грех против Слова? Смешное не может быть сущностью человека, не может быть природой чего бы то ни было. Смешное временно, проникновенный взгляд идет дальше его. Как Поликрат боялся того постоянного праздника, который праздновала его душа, как он для умилостивления небесной зависти хотел печали, так и смеющийся почувствует наконец тревогу и раскаяние в том, что он забыл серьезное начало мира, и тем внимательнее и вдумчивее обратится он к серьезному. Смех – грех. Правда, улыбка не оставит нас, и в грусти, которая нас осенит, все же будет слышен свойственный ей слабый отголосок радости, сладости…
И Чехов обратился к серьезному. На чем бы ни останавливал он взгляд своих задумчивых глаз, все принимало для него очертания скорби. Мифический царь безумно выпросил себе у богов коварный дар своим прикосновением все обращать в золото: и золотым слитком становился для него хлеб насущный. Чехов такого дара не просил, он его не хотел, он жаждал радости и жизни, но поневоле претворял он жизнь в золото печали, в осеннее золото увядающих листьев. Даже чарующие картины, даже благословенное появление красоты разрешаются у него мелодией элегической. Дважды мелькнули перед ним прекрасные женские лица, но он испытывал «не желания, не восторг, а тяжелую, хотя и приятную грусть». Ему становилось жаль и самого себя, и красавицы, и тех, кто ее окружал, точно они навсегда «потеряли что-то важное и нужное для жизни»! Он смутно помнил, что «капризная красота осыпается как цветочная пыль», и он переживал то «особенное чувство», которое пробуждается в человеке от созерцания настоящей красоты. И никогда не покидало его это платоновское воспоминание, эта светлая печаль о далекой сфере идеала.
Воспоминание вообще, его чары и его муки важной гранью входят во все творчество Чехова, нередко образуют главный колорит и настроение его рассказов. Наши дни проходят, и, проходя, они оставляют в душе свои смутные, слитные образы, и человек – по свидетельству Чехова, особенно русский человек – любит вглядываться в эти реющие призраки былого, предпочитая их пестроте и шуму текущего дня. «Что пройдет, то будет мило» и будет ласкать и печалить своей невозвратимой прелестью. «Проходили мимо меня люди со своей любовью, мелькали ясные дни и теплые ночи, пели соловьи, пахло сеном – и все это милое, изумительное по воспоминаниям, у меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, не ценилось и исчезало, как туман… Где все оно?» «Все, что нравилось, ласкало, давало надежду, – шум дождя, раскаты грома, мысли о счастьи, разговоры о любви – все это становится воспоминанием», и впереди «ровная пустынная даль: на равнине ни одной живой души, а там на горизонте темно, страшно».
Если в роковом увядании нашей жизни воспоминание о молодых и ранних днях само по себе волнует и томит, то противоположность между счастьем прошлого и скорбью настоящего совсем уже разрывает сердце на части. И в ссылке, сырою, холодною ночью, на рыжем глинистом берегу ворчащей реки, неутешно рыдает молодой татарин, вспоминая свою родную Симбирскую губернию, свою Волгу, свою красивую, застенчивую жену, которая будет теперь «ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню». Или бессрочно-отпускной рядовой Гусев умирает в чуждых водах Тихого океана, и в бреду грезится ему родная деревня на севере («Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о сне и холоде!»), вспоминаются ему дети-племянники, катающиеся на санях, девочка Акулька, которая распахнула шубу и выставила ноги: «глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые»…
Сердце человека обречено на то, чтобы разрываться. Оно не только, по слову немецкого поэта, не имеет голоса в зловещем совете природы, но даже и вне стихии, в своих человеческих делах, бьется болью. Ибо жизнь, как она и отразилась в книгах Чехова, представляет собою обильный выбор всякого несчастия и нелепости. Чехов показал ее в ее смешном, в ее печальном, в ее трагическом обликах. У него есть ужасы внешнего сцепления событий, капризные и страшные выходки судьбы; у него еще больше незаметного внутреннего драматизма, имеющего свой источник хотя бы в тяжелом характере человека, – например, в злобной скуке того мужа, который запретил своей жене танцевать и увез ее домой в разгаре веселого уездного бала. Вообще, вовсе не должна разразиться какая-нибудь особая катастрофа или тяжелая «воробьиная ночь» жизни, вовсе не должна произойти исключительная невзгода, для того чтобы сердце исполнилось тоски. Чехов занят больше статикой жизни и страдания, чем их бурной динамикой. В самом отцветании человеческой души, в неуклонном иссякновении наших дней, таится уже для него горький родник страдания, и разве это не горе, что студент Петя Трофимов, недавно такой цветущий и юный, теперь носит очки, и смешон, и невзрачен и все говорят ему: «отчего вы так подурнели? отчего постарели?»…
И страница за страницей, рассказ за рассказом тянется эта безотрадная панорама, и когда полное собрание сочинений Чехова, в таком странном соседстве с «Нивой», впервые сотнями тысяч экземпляров проникло в самые отдаленные углы русского общества и сотни тысяч раз повторилась участь рядового Гусева, под которого нехотя и лениво подставляет свою пасть акула, – тогда многие, вероятно, лишний раз почувствовали испуг и недоумение перед кошмаром обыденности. Вот, например, люди сидят и играют в лото, и вдруг раздается выстрел – это лопнуло что-нибудь в походной аптеке или это разбилось человеческое сердце?..
И есть даже на первый взгляд что-то непривлекательное в той меланхолической равномерности, в той привычке, с которою Чехов один за другим выпускал свои темные снимки мира. Без конца – только смерть положила конец – он рисовал эти страшные образы, и его глаза, раскрытые на ужас, как будто сами не ужаснулись, только отуманились. Если видишь то, что видел Чехов, нельзя быть спокойным. Хочется криком отчаяния прорезать эту невозмутимую тишину, это бесстрастие, с которым художник тщательно и мастерски воспроизводит бесконечные перспективы страдания, всю человеческую муку. Если мир таков, то с ним нельзя примириться, и надо биться головой об этот «унылый, окаянный» серый забор с гвоздями, который окружает не только палату N 6, но и всю земную действительность. «Человеческий талант», «тонкое, великолепное чутье к боли», соприкосновение ужасу – все это обязывает; исполнил ли Чехов свое обязательство? Студент Васильев, когда увидал «живых женщин», которых продают, покупают, убивают, перенес мучительный припадок, – он рыдал, терзался, он едва не сошел с ума: острой болью охватило его недоуменье перед равнодушной неправдой жизни, перед спокойствием этого снега, который своими белыми, молодыми пушинками так же весело падает в развратный переулок, как и во все остальные улицы мира. Но затем товарищи, которые советовали ему «объективно смотреть на вещи», и «полный, белокурый» доктор, прописавший ему бромистый калий, успокоили, вылечили его; полегчало Васильеву, и он «лениво поплелся к университету». Он будет теперь вообще лениво плестись по жизни, и больше с ним не случится припадка, больше он не будет в отчаянии. Он привыкнет, как это и рыдавшему в ссылке татарину жестоко предсказывал его привыкший товарищ. Если Васильев – из лучших, он уже не станет сам ходить в ужасный переулок, который он проклинал, но все же будет свидетелем того, как ходят в него другие и как «смоленские бухгалтеры» посылают в него все новые и новые партии женщин. И даже в общем тексте чеховского миросозерцания можно прочесть, что и сам Васильев, пожалуй, в позорный переулок еще и еще пойдет… Он привыкнет.
И мы прокляли бы, трижды прокляли бы «замену счастья», миролюбивую привычку, если бы это только она тушила в людях припадки сострадания, настороженную впечатлительность к добру и злу. Но то, что сохраняет людей для мира, и то, что сохранило в Чехове спокойствие, необходимое для поэтического творчества, это в конечном основании – та могущественная сила жизни, любви и света, которая побеждав и рассеивает все тягостные фантомы ночи. Не бесследно, не даром каждый день восходит солнце. Только врожденная привязанность к солнцу, источнику живого, только неисчерпаемый запас его, живущий в человеке, и может объяснить, почему Чехов, почему другие писатели скорби впитали ее в себя, но не изнемогли от нее. Любовь сильнее смерти. И она, любовь, просвечивает сквозь ту объективную строгость, в какую облекает Чехов свои произведения. Он часто рассказывает неумолимо и холодно – вспомните, например, поразительный тон «Старого дома». Но этим художник только дает свой суровый ответ суровой действительности, которой он не хочет сдаваться. Он словно говорит ей: «Ты насылаешь горести и несчастья, ты смеешься и коварно сплетаешь для людей такие сети ужасов, от которых стынет кровь в жилах, но я не буду сетовать и содрогаться, и я поведаю об этом спокойно. Того, что происходит в глубине моего сердца, я не покажу тебе: это не твоя забота, не твое дело. Быть может, в меня и в моих ближних, как в Лаокоона, впиваются твои змеи, но я останусь спокоен, как это подобает художнику, подобает творцу. И если тени и тени ложатся на мое бледнеющее лицо, это не твоя забота, не твое дело. Я буду спокоен до последнего дыхания и без жалоб и слез расскажу о тебе другим. Ты меня не удивишь, и я мужественно приму твои отравленные дары, твои смертоносные удары: величие моего сознания и моей художественной мощи я противопоставлю твоей жестокости». Под слоем этого эпического спокойствия дышит, однако, глубокий, целомудренный лиризм, и даже он сказывается иногда в самой форме изложения, в каком-нибудь сочувственном восклицании: «о, какая суровая, какая длинная зима!» Вообще, удивительное сочетание объективности и тонко-интимного настроения составляет самую характерную и прекрасную черту литературной манеры Чехова – этих сжатых рассказов, где осторожными прикосновениями взята лишь эманация человеческого, где оно звучит лишь своею «музыкой». К традиции нашего реализма примыкает Чехов, к плеяде наших великих писателей; но, чуткий и честный, не искажая реальности, он, однако, освещает ее больше изнутри, касается ее интимно, берет от жизненных фактов только их лирическую квинтэссенцию. Мир остается миром, подлинный вид его не изменяется – лишь накинута на него дымка впечатлений, и потому как будто улетучилась или, по крайней мере, утончилась его материальная суть, его грубая вещественность, и владеет нами почти одна духовная стихия, прозрачная и чистая, исполненная звуков Эоловой арфы. Элегическое одухотворение действительности не навязчиво здесь, и целомудрен и деликатен лиризм писателя; но бесспорно, что состоянию своего человеческого и авторского духа все же подчиняет Чехов и самые натуры своих героев, и их поступки, и все вообще житейские положения. Он выбирает, он собою окрашивает, собою обусловливает картину быта, психологию людей, и не всегда последняя необходима у него, не всегда господствует закон достаточного основания. Однако не сетует читатель на произвол рассказчика – наоборот, он всецело проникается его настроением, приобщается своей субъективностью к его субъективности, так что уже совпадает с нею сама объективность, и не судишь милого победителя, и Чехову не сопротивляешься.
Он вообще обладает неотразимой силой, этот, казалось бы, хрупкий и хрустальный лирик-реалист. Ему довольно миниатюры, двух строчек, набросанных в записной книжке, для того чтобы уже открылись перед нами целые перспективы характеров и судеб. «Жена рыдала. Муж взял ее за плечи, встряхнул, и она перестала плакать» – разве этого не достаточно, разве это не готовое художественное произведение? Свои афоризмы, свои сжатые изречения имеет не только мысль, но и искусство. Впрочем, и сам Чехов иногда мог бы кончить, поставить точку раньше, чем он ее ставит. Но в общем он – мастер литературного афоризма, художник-скупец. В своей нерасточительности и простоте он вместе с тем не отличается особенной густотою и насыщенностью слов: легко он пишет, легко его читать, и не как ношу, а как легкую радость берешь его в свое сознание. Он незаметен. Между тем даже интонация его фраз полна содержательности и как-то по-особому настраивает; самые фамилии его персонажей так убедительны и характерны – все эти Розалия Осиповна Аромат, провизор Проптер, актриса Гитарова, еврей Чепчик, жандармский унтер-офицер Илья Черед, М. И. Кладовая, Благовоспитанный, «маленький крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр»…
«Однозвучный жизни шум» томил Чехова, и он воспроизвел ею в своем художественном отклике. Эта жизнь часто грезилась ему в виде движения или дороги: приходят и уходят поезда, уезжают, приезжают люди, посещая, покидая свои усадьбы, дома с мезонинами, новые дачи; мелькают города и станции, звенят колокольчики. Иногда жизненная поездка весела, отрадна, сулит что-то в будущем, но чаще она обманывает. Алехин долго таил от любящей и любимой женщины свое чувство, и вот наконец он признается ей в своей любви, и целует ее, и плачет («О, как мы были с нею несчастны!»), и с жгучей болью в сердце понял он, как ненужно и мелко было все то, что мешало им любить друг друга, – но уже поздно, поздно, и через мгновенье поезд унесет ее далеко, умчит навеки; жизнь двинется дальше, она не ждет, и первый поцелуй останется последним. Сладкое счастье любви уже так близко коснулось другого молодого путника, и он уже обнял женщину, очарованную его белокурой головой, – но властно зовет его жизненное путешествие, у двери показался ямщик, и надо из теплой комнаты опять двигаться в снежную дорогу, под завывание метели, и вот уже «лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой, длинной цепочкой понеслись от сторожки». Над юношей насмеялась жизненная поездка, как насмеялась она в родном углу над Верой, которую поглотило «спокойное зеленое чудовище степи». И в той же степи, на затерянном полустанке, тоскует свидетель чужого передвижения, человек, которому некуда ездить и перед которым «женщины мелькают только в окнах вагонов, как падающие звезды». А сельская учительница, быть может, символ всей русской интеллигенции, знающая только одну дорогу – от школы до города, постаревшая, огрубелая, измученная своей жизнью в избе, где от сырости потускнела даже фотография матери, единственный остаток лучших дней, – учительница едет, едет весенним бездорожьем на тряской подводе, и лошадь входит в реку, холодную, быструю, мутную; резкий холод пронизывает Марью Васильевну, калоши и башмаки полны воды, платье и шубка мокры, подмочены сахар и мука. А на железнодорожном переезде опущен шлагбаум: со станции идет-мчится ликующий, счастливый курьерский поезд. Марья Васильевна, дрожа всем телом от холода, смотрит на его окна, отливающие ярким светом, «как кресты в церкви». «На площадке одного из вагонов первого класса стояла дама, и Марья Васильевна взглянула на нее мельком: мать! Какое сходство! У матери были такие же пышные волосы, такой же точно лоб, наклон головы. И она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате, в кругу родных; чувство радости и счастья вдруг охватило ее, от восторга она сжала себе виски ладонями и окликнула нежно, с мольбою: мама! И заплакала, неизвестно отчего… Да, никогда не умирали ее отец и мать, никогда она не была Учительницей, то был длинный, тяжелый, страшный сон, а теперь она проснулась… И вдруг все исчезло. Шлагбаум медленно поднимался. Марья Васильевна, дрожа, коченея от холода, села в телегу».
Умчался курьерский поезд, рассеялся призрак матери, призрак былого счастья, и едет, едет учительница на тряской подводе в свою школу, где ее ожидает грубый сторож, который бьет детей, и грубый попечитель, которого надо умолять о присылке дров. Умчался курьерский поезд, и опять «длинной вереницей, один за другим, как дни человеческой жизни» тянутся вагоны товарные, и как будто нет им числа, нет конца этой медленной «гусенице». На дороге жизни, между прочим, интересуют Чехова люди чужого движения, те, которых посылают, которые заняты делом не своим. Характерно, что у него часто выступают лишенные «обыкновенного, пассажирского счастья» почтальоны, кондуктора, сотские – все эти обреченные на движение ради других. Они в большинстве относятся к разряду хмурых людей, они сердятся – «на кого они сердятся: на нужду, на людей, на осенние ночи?»; они бесчувственны к разговору, у них холодная кровь и неприветливая душа, как неприветливо осеннее утро, когда солнце восходит «мутное, заспанное, холодное». Эти скитальцы жизни, которым говорят: «хлеб твой черный, дни твои черные», эти перекати-поле и странники, идущие, бредущие, вечные путники – они привидением встают перед своими более счастливыми братьями, и, например, судебному следователю Лыжину ночью, в теплом доме, грезится, что по снежной поляне идут, поддерживая друг друга, старый сотский и земский агент, прекративший самоубийством свое бесцельное жизненное движение, свое тяжелое жизненное сновидение; они идут, соединенные общностью человеческой судьбы, и вместе поют какую-то жуткую песнь: «Мы идем, мы идем, мы идем… Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу… Мы не знаем покоя, не знаем радостей… Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей… У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем»…
Но в каких бы формах ни совершалось движение людей – будет ли оно свое или чужое, отраженное, каждый из его участников одинаково несчастен, и недаром в сновидении Лыжина в одну пару соединены сотский и самоубийца, нищий физический и нищий духовный. Все несчастны, и все чувствуют себя в мире безнадежно одинокими, как одинок в степи зеленый тополь. И не всегда он даже зеленый: осенью он переживает, обнаженный, страшные ночи, «когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра»; а зимою, покрытый инеем, «как великан, одетый в саван», он глядит сурово и уныло на одинокого путника, точно понимает и собственное одиночество. Именно тогда, когда жизнь срывает с нас зеленую листву молодости и человеку, «как это ни странно», оказывается уже «пятьдесят один год», – тогда особенно думаешь не только о том, что всякая душа – сирота, но и о том «одиночестве, которое ждет каждого из нас в могиле», и тогда «звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, гнетут душу своим молчанием». Равнодушный, однообразный, глухой шум моря, раздававшийся и тогда, «когда еще не было ни Ялты, ни Ореанды», говорит «о покое, о вечном сне, какой ожидает нас». В бессонные ночи думается о холоде смерти; «и потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминают почему-то только о том, что жизнь уже прошла; что не вернешь ее никак». Чужое одиночество сознает даже чуткая душа ребенка, и, когда над Егорушкой в «Степи» склонилась прекрасная графиня Драницкая, «ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме».
Самое печальное в жизни, в уходящей жизни, это – нравственное опустошение, которое она производит в нас самих. Мы обманули собственные прекрасные надежды и обещания; потускнели все впечатления бытия, опошлились и поблекли наши чувства, и духовная старость оледенила все пылкие стремления, все благородные замыслы. Каждый раз природа опять чиста и нова, и утром так свеж росистый сад, а наше человеческое утро исчезает навсегда, и нет обновления усталому сердцу. И как это грустно смотреть на белый вишневый сад, на длинную аллею, которая блестит в лунные ночи, и думать о том, что детство и чистота улетели навеки, и грезить о том, что «покойная мама идет по саду в белом платье», – но нет, это не мама, это «склонилось белое деревцо, похожее на женщину». «О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мной каждое утро, и тогда уж он был точно таким, ничего не изменилось. Весь, весь белый. О, сад мой!.. Опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя. Если бы снять с груди и плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»
Ангелы небесные не покидают вишневого сада, и к саду возвращается его белая молодость, его чистая весна. Но невозвратимо белое человека. И сознание его утраты налагает свою тень на всю дальнейшую жизнь. Белые цветы вишневого сада и призрачная мама в белом платье оттеняют все, что есть темного в душе у Раневской, и горько и постыдно ей думать о Париже, о том, что в нем было и что еще будет. Чистота умерла. Но, может быть, после того как умрет и сама Раневская, на ее могиле, как и над бедной героиней «Старости», будет стоять «маленький белый памятник» и будет смотреть на прохожих «задумчиво, грустно и так невинно, словно под ним лежит девочка, а не распутная, разведенная жена»?..
Чистота, белое умирает, и жутко и стыдно человеку заглядывать в глубину совести. Ведь Страшный суд – собственный суд. Вот – Лаевский, герой «Дуэли». «Он вспомнил, как в детстве во время грозы он выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами и их мочил дождь, они хохотали от восторга; но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: „Свят, свят, свят!“ О, куда вы ушли, в каком вы море утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы уж он не боится и природы не любит, Бога у него нет, все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками, в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки и, живя среди живых… только разрушал, губил и лгал, лгал…»
«Молодой, только что окончивший филолог приезжает домой в родной город. Его выбирают в церковные старосты. Он не верует, но исправно посещает службы, крестится около церквей и часовен, думая, что так нужно для народа, что в этом спасение России. Выбрали его в председатели земской управы, в почетные мировые судьи, пошли ордена, ряд медалей – и не заметил, как исполнилось ему 45 лет, и он спохватился, что все время ломался, строил дурака, но уже переменять жизнь было поздно. Как-то во сне вдруг точно выстрел: „Что вы делаете?“ – и он вскочил весь в поту…»
Раневская, Лаевский и все падшие имеют еще силы переносить самих себя. Но семнадцатилетний юноша Володя себя не перенес. То нечистое, что в него проникло, наполнило его острым стыдом, и его убил этот стыд перед собою, перед пошлостью родной матери, перед пошлостью любимой женщины, очарование которой исчезло в несколько мгновений. Он видел солнечный свет и слышал звуки свирели; солнце и свирель говорили ему, что «где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая, – но где она?». И только вспомнились Володе Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он когда-то бегал по песку. И те же девочки, олицетворение всего чистого и прекрасного, вероятно, пронеслись в его угасавшем воображении, когда он спустил курок револьвера и полетел в какую-то «очень темную, глубокую пропасть».
Так должен был Володя прервать короткую нить своих искаженных дней; но Чехов и вообще показал, как рано блекнут наши дети. Он любит ребенка; он ласково держит его за руку и глубоко, с доброй улыбкой заглядывает в его маленькую душу. И есть нечто прекрасное и трогательное в этой группе: Чехов и ребенок. Глаза, уже оскорбленные и утомленные жизнью, светящиеся вечерним светом юмора и печали, – и глаза, на жизненное утро только что раскрывшиеся, всему удивленные и доверчивые. Но много печальных страниц посвятил Чехов описанию того, как «невыразимо пошлое влияние гнетет детей и искра Божья гаснет в них и они становятся похожими друг на друга мертвецами». Искра Божья гаснет в детском сердце, потому что оно в испуге и недоумении сталкивается с пошлостью взрослого человека, с драмою жизни. Не только гибнут Варька и Ванька, которым спать хочется и есть хочется и которые напрасно взывают о защите к своему и к мировому дедушке, но и те дети, которые вырастают в обеспеченной среде, морально погибают, зараженные неисцелимой пошлостью. И когда-то нежные, кудрявые, мягкие, как их бархатные куртки, они сделаются сами взрослыми людьми, и когда мертвые похоронят своих мертвых и равнодушный оратор произнесет над ними свою нелепую речь, они, эти новые отпрыски старых корней, пополнят собою провинциальную толпу человечества и станут жителями чеховского города, продолжающего традиции города гоголевского.
Если бы нас пристально блюла только чистая печаль, если бы страдание человеческое было благородно, то душа принимала бы их не оскорбляясь. «На катке он гонялся за Л., хотелось догнать, и казалось, что это он хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени». Вот с тем, что нельзя уже догнать Л. и дней своих, невозвратимо ускользнувших на катке жизни мы в грустном смирении, в покорном отречении мирились бы и находили бы даже своеобразную красоту в своем осеннем увядании. Но есть ненужное и оскорбительное горе жизни, есть унижающая бессмыслица, есть огромная власть и засилие вздора; и вот эта нравственная пыль горшей мукой мучила Чехова и внушала ему безрадостные страницы – эпопею человеческой нелепости. Именно – всечеловеческой, а не только русской, пусть и носит она определенные родные названия, пусть и гласит у него в записной книжке один набросок: «Торжок. Заседание думы. О поднятии средств городских. Решение: пригласи папу римского перебраться в Торжок – избрать его резиденцией»… Глупость международна. В ее державе, в нравственной провинции мира, в ее русском районе, нет ни одного честного, ни одного умного человека, «ни одного музыканта, ни одного оратора, или выдающегося человека», «ни пессимизма, ни марксизма, никаких веяний, а есть застой глупость, бездарность», и бездарные архитекторы безвкусных домов строят здесь клетки для мертвых душ, и на все налегает грузная, безнадежная, густая пелена обыденности. И пошлость, как спрут, обвивает каждого, и часто нет никаких сил бороться против ее насилия. По слову Тютчева, пошлость людская бессмертна; но, сама бессмертная, она мертвит все, к чему ни прикасается. Она останавливает живое творчество духа, она силой бездушного повторения обращает в механизм и рутину то, что должно бы быть вечно новое, свежее, первое. Остановка духа именно потому и оскорбительна, что подвижность составляет самое существо его. От пошлости стынут и гаснут слова, чувства, мысли; она заставляет людей употреблять одне и те же фразы и прибаутки, из которых вынуты понятия; она заставляет тяжело переворачивать в уме одне и те же выдохшиеся идеи, и все цветы жизни, весь сад ее, она претворяет в нечто искусственное, бумажное, безуханное. Особенно мертво то, что притворяется живым, и пошлое тем ужаснее, что выдает себя за живое. Оно считает себя правым, оно не сознает своей мертвенности и самодовольно, без сомнений, распоряжается в подвластной ему широкой сфере.
Оттого пошлость и была лютым врагом изящного, безостановочно-духовного и творческого Чехова. В течение всей своей недолгой жизни он, как писатель, боролся с нею; она гналась за ним по пятам, и он постоянно слышал за собою ее тяжелое дыхание. Ее не избыть, от нее не оградиться.
Вот на святках мать диктует Егору, отставному солдату, письмо к дочери и зятю, и она хочет, страстно хочет излить все свои лучшие материнские чувства, послать свое благословение, сказать самые ласковые, дорогие, заветные слова, а Егор, «сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, сидит на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком», сидит и пишет – что он пишет! «Въ настоящее время, какъ судьба ваша черезъ себ определила на Военое Попрыще, то мы Вамъ советуемъ заглянуть въ Уставь Дисциплинарныхъ взысканiй Уголовныхъ Законов Военаго Ведомства, и Вы усмотрите въ ономъ Законе цывилизацiю Чинов Военаго Ведомства»…
Вот пишут любовное письмо и прилагают на ответ марку… Вот Андрей, «охваченный нежным чувством», сквозь слезы говорит своим сестрам, своим трем сестрам: «Милые мои сестры, чудные мои сестры! Маша, сестра моя», – а в это время растворяется окно и выглядывает из него… пошлость, выглядывает Наташа, и кричит: «Кто здесь разговаривает так громко?.. II ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormee deja. Vous etes un ours»[2 - Не шумите, Софи уже уснула. Вы медведь (фр.)].
Вот идет архитектор под руку с дочерью, светлой девушкой, и говорит ей о звездах, о том, что даже самые маленькие из них – целые миры, и при этом он указывает на небо тем самым зонтиком, которым давеча избил своего взрослого сына.
Безутешна мать, у которой убили единственного ребенка; но священник, «подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей: „Не горюйте о младенце. Таковых есть царство небесное“»…
«Мама, Петя Богу не молился!» Петю будят, он молится и плачет, потом ложится и грозится кулаком тому, кто пожаловался.
И для многих университетов характерно «мнение профессора: не Шекспир главное, примечания к нему». Как писатель Чехов от этого последнего облика пошлости, от этого предпочтения тексту примечаний, особенно страдал и при жизни, и посмертно…
Вообще, пошлость разнообразна. Ее не перечислишь, ее не уловишь.
Только от девушек веет нравственною чистотою, и многие сохраняют ее навсегда; прекрасные женские образы встают перед нами в произведениях Чехова, обвеянные лаской, какой они не знали со времен Тургенева, – эти тоскующие чайки, которых убили, эти женщины, которых разлюбили, эта Катя из «Скучной истории»: она прежде смеялась так весело и бархатно, потом жизнь смяла ее, и она уж больше не смеялась… И, может быть, среди них, в кругу милых трех сестер, которые стали нашими общими сестрами, около некрасивой и обаятельной Полины Рассудиной из «Трех лет», Анюты из «Моей жизни», и Ани из «Вишневого сада», и Душечки, меркнут все эти попрыгуньи, супруги и Ариадны, напоминающие своей холодной любовной речью «пение металлического соловья», и барышни, которые в письмах выражаются так: «мы будем жить невыносимо близко от вас», и эти же барышни, которых имел в виду Чехов, когда давал свой горький совет: «если боитесь одиночества, то не женитесь… я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными», и эта дочь профессора, которая когда-то девочкой любила мороженое, а теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость…
Обыватели пошлого города, граждане всесветной глуши или уживаются, мирятся с обыденностью, и тогда они счастливы своим мещанским счастьем, или они подавлены ею, и тогда они несчастны, тогда они – лишние, обойденные. Но большинство счастливы, и на свете, в сущности, очень много довольных людей, и это на свете печальнее всего. В тишине вялого прозябания они мечтают о своем крыжовнике – и получают его; кислыми ягодами крыжовника отгораживаются они от остального мира, от мира страдающего, и не стоит у их дверей человек с молоточком, который бы стучал, стучал и напоминал об окружающей неправде и несчастье. Были и есть люди с великими молоточками слова – Чехов принадлежит к их благородному сонму; из-за них человечество не засыпает окончательно, убаюканное шумом тусклых дней, довольное своим крыжовником. Но многие, очень многие сидят в своих футлярах, и никакое слово не пробудит их от вялой дремоты. Они робки и боятся жизни в ее движении, в ее обновлении.
Впрочем, страх перед нею, перед тем, что она «трогает», конечно, еще не влечет за собою нравственного падения. В русской литературе есть классическая фигура человека, который путался жизни, бежал от нее под защиту Захара, на свой широкий диван, но в то же время был кроток, нежен и чист голубиной чистотою. Пена всяческой низменности клокотала вокруг Обломова, но к нему не долетали ее мутные брызги. А Беликов, который тоже смущался и трепетал перед вторжением жизни, из-за этого впадал не только в пошлость, но и в подлость. И вот почему на могилу Обломова, где дружеская рука его жены посадила цветущую сирень, русские читатели до сих пор совершают духовное паломничество, а Беликова, читаем мы в рассказе, приятно было хоронить. Правда, Чехов совсем не убедил нас, что ославленный учитель греческого языка должен был в силу внутренней необходимости от своего страха перейти к доносам и низости. Этого могло ведь и не быть, это необязательно. Вообще, не без вульгарного оттенка издеваясь над тем, что Беликов умиленно произносил чудные для его слуха греческие слова, рассказчик совсем упустил из виду то мучение, которое должен был переносить человек, всего боявшийся и страдавший бредом преследования; в этом смысле «Человек в футляре» – произведение слабое. Но зато на многих других страницах Чехов, к сожалению, слишком убедительно показал своих горожан в презренном ореоле трусливости и мелочного приспособления к требованиям властных людей и обстоятельств.
А те, кто не приспособляется, тоскливо бредут по жизни, которая кажется им скучной и грубой историей, сменой однообразий, каким-то нравственным «третьим классом» или городом Ельцом, где «образованные купцы пристают с любезностями».
Они тащат свою жизнь «волоком, как бесконечный шлейф». И все, как приспособленные, так и неприспособленные, не живут, а превращают свою жизнь в медленные, длительные похороны самих себя. В длинном кортеже дней только и делают они, что приближаются к могиле.
Уныние неприспособленных чеховских героев многие критики склонны объяснять характером русских восьмидесятых годов прошлого века. Но трудно этим истолкованием удовольствоваться, потому что Чехова и его тоску можно представить себе в любое время, в любую, хотя бы и самую героическую, эпоху. Недаром Глеб Успенский, судья очень компетентный, не хотел признавать Иванова типичным восьмидесятником Возможно и вероятно только то, что угнетенное общественное настроение, какое царило тогда в иных кругах интеллигенции, более или менее отразилось в душе и творчестве Чехова. Но было бы странно приписывать чеховской скорби только этот, случайный и временный, характер и отказывать ей в более глубокой, общепсихологической основе.
Нам кажется, что лишних людей Чехова и его самого в конечном основании удручал, безотносительно к особенностям русской жизни, закон вечного повторения, этот кошмар, который преследовал и Ницше. Все в мире уже было, и многое в мире, несмотря на истекшие века, осталось неизменным. Остались неизменными горе и неправда, и в спокойное зеркало вселенной как бы смотрится все та же тоскующая мировая и человеческая душа. Под глубоким слоем пепла лежали сожженные лавой древние Геркуланум и Помпеи, но под этой пеленою картина прежней жизни осталась такою же, как ее захватила как ее остановила текучая лава. Так, и под слоем всех новшеств и новинок, каких приобрело себе человечество, Гамлет-Чехов видит все то же неисцелимое страдание, как оно было и в то «бесконечно-далекое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом».
Самая беспрерывность и повторяемость людских происшествий уже налагает на них, в глазах Чехова, отпечаток пошлого. Праздничная атмосфера счастья и весны окружает у Толстого девушку-невесту, Кити Щербацкую или Наташу Ростову; а чеховской невесте говорят слова любви, но сердце ее остается холодно и уныло, и ей кажется, что все это она уже очень давно слышала или читала где-то в романе, в старом, оборванном, заброшенном романе. Она, тоскуя, проводит бессонные ночи, и ей невыносима эта вновь отделанная квартира, ее будущее жилище, эта обстановка и картина известного художника, которую самодовольно показывает ей счастливый жених.
Что же? Быть может, в самом деле человечество состарилось, и, хотя всякий живет за себя, начинает свою жизненную дорогу сызнова, все же на каждом из наших состояний, на каждом событии нашего душевного бытия, лежит отпечаток того, что все это уже было и столько невест уже испытало свое весеннее чувство? Быть может, в глубине нашей бессознательной сферы созрел ядовитый плод усталости и плечи седого человечества утомились грузом истории, тяжестью воспоминаний? Быть может, в самом деле мир истрепался, побледнел и мы, наследники и преемники бесчисленных поколений, уже не имеем силы воспринимать настоящее во всей свежести и яркой праздничности его впечатлений?
Кто знает? Несомненно, что здесь Чехов подходит к самым пределам человеческой жизни в ее отличии от природы. Каждая весна, которая «в условный час слетает к нам светла, блаженно равнодушна», сияет бессмертием и не имеет «ни морщины на челе». О ней говорит глубокий Тютчев:
Цветами сыплет над землею,
Свежа как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она.
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0