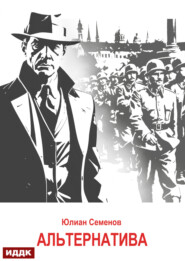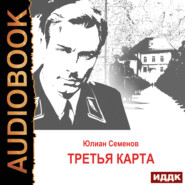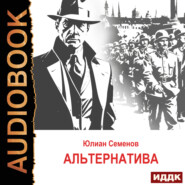По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Испанский вариант (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Спокойной ночи… Желаю вам увидеть вашего приятеля еще раз.)
Хаген вернулся в кабинет – в обычной своей манере – очень тихо, почти неслышно.
– Кликните кого-нибудь из дежурных, – попросил Штирлиц, – а мы с вами покинем господина Пальма минут на пять.
Когда они вышли из кабинета, Штирлиц сказал:
– Боюсь, что здесь нам с ним не отличиться – он молчит, как тыква, или несет чушь.
– Я же говорил вам…
– Говорили, говорили… Вы умница, приятель… Тем не менее сидите с ним и мотайте его, а я поеду в посольство и договорюсь с Кессельрингом о сопровождении этого самолета здешними истребителями от границы…
– Хорошо. Мне ждать ваших указаний или отпустить его спать?
– Нет… Спать – только в крайнем случае, если у него действительно перекрутились в черепе шарики. А так – работайте. Вдруг вам повезет? Это ж прекрасно, если вы напишете рапорт Гейдриху о вашей победе над латышом.
– Это будет наша совместная победа.
– Да будет вам, приятель… Я вообще в этом деле пятая фигура с краю. Счастливо, я, пожалуй, двину, пока они не разъехались пьянствовать…
– Сегодня, по-моему, нигде нет приемов…
– По-вашему, пить можно только на приемах? Ну и экономный же вы парень, Хаген! То-то я смотрю, вы всегда на приемах хлещете вино на дармовщину… Не сердитесь, не сердитесь, дружочек, не надо на меня сердиться, тем более, когда я говорю правду.
По дороге в посольство – Кессельринг согласился принять его, несмотря на поздний час, – Штирлиц успел заскочить в книжный магазин на Пасео де ля Кастельяна. Он купил все новые газеты и, отдавая деньги хозяину, сеньору Эухеннио, негромко сказал:
– Пусть Вольф ставит на белых петухов, завтра в девять обещают интересный бой. Я заеду к вам через два часа…
Эти слова означали для Вольфа многое: во-первых, становилось ясным, что самолет за Пальма прибудет завтра в девять утра. Во-вторых, Юстас подтверждал целесообразность своей версии – подмены самолета. И, в-третьих, последняя фраза означала, что встреча у Клаудии состоится не завтра, как они оговаривали, а сегодня, через два часа. Они договорились днем, что Вольф не будет уходить в горы, а, наоборот, передислоцирует своих людей в город – на случай непредвиденных обстоятельств.
Кессельринг был весел. Он знал, что ему идет улыбка, он делается похожим на Фрица Кранга, когда улыбается и чуть приподнимает левую бровь. Ему об этом сказал рейхсмаршал, который пересмотрел все детективные фильмы с участием Фрица Кранга, и поэтому Кессельринг старался всегда сохранять рассеянную и надменную кранговскую улыбку, даже если улыбаться ему и не хотелось. А сейчас ему хотелось улыбаться, он был весел, несмотря на дьявольскую неприятность с похищенным «мессершмиттом». Геринг сообщил, что вся ответственность за это возложена на Лерста и вообще на ведомство Гейдриха. Но у него были более веские основания сохранять веселое настроение: республиканцы откатывались по всему фронту, и, как полагали серьезные военные, дни красных теперь уже были сочтены.
– Вас еще не бросили в ваш каземат? – спросил он Штирлица. – Или рука руку моет? Я бы на вашем месте написал задним числом донос на Лерста. – Он засмеялся: – Мертвые все вынесут, они безмолвны.
– Завтра утром мы отправляем в рейх одного человека… За ним выслали наш самолет…
– Я знаю. Я жду Рудди так же, как вы…
– Кого?
– Рудди Грилля. Этот парень учился у меня летать, я люблю его, как сына. Я распорядился, чтобы он задержался здесь на день, я уже получил согласие вашего шефа.
План в Москве был разработан до мельчайших подробностей. Самолеты республиканцев барражируют на границе с Францией, над труднодоступными горными районами. Они сбивают самолет № 259. Он должен быть сбит внезапным ударом, над горами, чтобы исключить возможность радиосвязи с Бургосом. Самолет № 259 – точно такой же марки – вылетает из Барселоны и, пройдя над морем, ложится на курс сбитого эсэсовского самолета. Радисты с борта самолета по коду, переданному Штирлицем, просят доставить Пальма на поле аэродрома. Они принимают его на борт и улетают в Париж, где на аэродроме Яна ждет санитарная машина, которая доставит его в госпиталь для инфекционных больных.
Никто не мог предположить, что из сотен пилотов, совершавших рейсы из Берлина в Бургос, этот рейс будет выполнять ученик Кессельринга, который приглашен военным атташе провести день у него в доме. Тщательно запланированная операция – именно этим личностным, чисто случайным обстоятельством – была разрушена и развалилась, как карточный домик.
Штирлиц посмотрел на часы. Стрелки показывали 22.45.
(«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы хотим решить с помощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу.
Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои сомнительные стороны. Ибо она может очень легко привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ, вместо того чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно перестроить психологически немецкий народ и не спеша внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо разрешать с помощью силы. Но для этого было необязательно пропагандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если нельзя добиться по-хорошему, то надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы. Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не понимали, господа.
Многие считали, что все это какое-то извращение. Это те сверхученые интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда начнется гроза…
Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следовала за мной, именно тогда фанатично следовала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в окончательную победу…
Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так называемых отрицательных сторонах.
Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа: руководство действует правильно! Господа, мы все не гарантированы от ошибок. И газетчики подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на положительном».
Из секретного выступления Гитлера перед представителями немецкой прессы.)
– Послушайте, Пальма, – устало повторил Хаген, – что бы вы мне тут ни пели про вашу несчастную голову, я тем не менее буду повторять свои вопросы: почему вы убили Лерста? Чем вызвано было это неслыханное злодеяние, подвластное судопроизводству рейха? Так что и с формальной стороны все будет соответствующим образом оформлено. Надеюсь, вы понимаете, что здешние власти – уже задним числом – выдадут вас в руки германского правосудия?
– Повторяю: я не убивал Лерста.
– А кто же его убил? Святой Дух?
– Этот мог, – согласился Пальма.
«А ведь сейчас снова начнет бить, – подумал Ян, заметив, как передернулось лицо Хагена. – Что за манера такая? Не может возразить и сразу начинает драться… Между прочим, я сейчас подумал, как наивный идиот. Каким был тогда, на последней германской станции, когда думал испугать Лерста публичным разоблачением его издевательства над тем стариком. К этой швали применимы только зоологические градиенты… А спать я, конечно, не смогу – во мне все напряжено до предела…»
– Я жду ответа, – сказал Хаген. – Я обращаюсь к вашей логике и здравому смыслу. Расскажите мне, что произошло вчера, после того как Лерст увез вас из отеля – от вашей подруги?
(Лерст вчера гнал машину чересчур рискованно: шины тонко визжали на крутых поворотах горной дороги.
– А как звали того журналиста, который сидел в баре вместе с вами и Манцером?
– Все вы знаете обо мне! Кто вам об этом мог донести?
– Друзья, Ян, мои друзья.
– Ага, признались! Я давно подозревал, что вы не дипломат, а шпион!
– Как имя того парня, который удрал с Манцером?
– Черт его знает! То ли Джим, то ли Джек. Эти имена в Штатах так же распространены, как у вас Фриц или Ганс.
– Вы не запомнили его имени?
– Казните – не запомнил.
– Из какой он газеты?
– По-моему, он левый. Такой, знаете ли, яростный левый… Куда мы едем, кстати?
– Недалеко. А откуда вам известно, что он левый?
Хаген вернулся в кабинет – в обычной своей манере – очень тихо, почти неслышно.
– Кликните кого-нибудь из дежурных, – попросил Штирлиц, – а мы с вами покинем господина Пальма минут на пять.
Когда они вышли из кабинета, Штирлиц сказал:
– Боюсь, что здесь нам с ним не отличиться – он молчит, как тыква, или несет чушь.
– Я же говорил вам…
– Говорили, говорили… Вы умница, приятель… Тем не менее сидите с ним и мотайте его, а я поеду в посольство и договорюсь с Кессельрингом о сопровождении этого самолета здешними истребителями от границы…
– Хорошо. Мне ждать ваших указаний или отпустить его спать?
– Нет… Спать – только в крайнем случае, если у него действительно перекрутились в черепе шарики. А так – работайте. Вдруг вам повезет? Это ж прекрасно, если вы напишете рапорт Гейдриху о вашей победе над латышом.
– Это будет наша совместная победа.
– Да будет вам, приятель… Я вообще в этом деле пятая фигура с краю. Счастливо, я, пожалуй, двину, пока они не разъехались пьянствовать…
– Сегодня, по-моему, нигде нет приемов…
– По-вашему, пить можно только на приемах? Ну и экономный же вы парень, Хаген! То-то я смотрю, вы всегда на приемах хлещете вино на дармовщину… Не сердитесь, не сердитесь, дружочек, не надо на меня сердиться, тем более, когда я говорю правду.
По дороге в посольство – Кессельринг согласился принять его, несмотря на поздний час, – Штирлиц успел заскочить в книжный магазин на Пасео де ля Кастельяна. Он купил все новые газеты и, отдавая деньги хозяину, сеньору Эухеннио, негромко сказал:
– Пусть Вольф ставит на белых петухов, завтра в девять обещают интересный бой. Я заеду к вам через два часа…
Эти слова означали для Вольфа многое: во-первых, становилось ясным, что самолет за Пальма прибудет завтра в девять утра. Во-вторых, Юстас подтверждал целесообразность своей версии – подмены самолета. И, в-третьих, последняя фраза означала, что встреча у Клаудии состоится не завтра, как они оговаривали, а сегодня, через два часа. Они договорились днем, что Вольф не будет уходить в горы, а, наоборот, передислоцирует своих людей в город – на случай непредвиденных обстоятельств.
Кессельринг был весел. Он знал, что ему идет улыбка, он делается похожим на Фрица Кранга, когда улыбается и чуть приподнимает левую бровь. Ему об этом сказал рейхсмаршал, который пересмотрел все детективные фильмы с участием Фрица Кранга, и поэтому Кессельринг старался всегда сохранять рассеянную и надменную кранговскую улыбку, даже если улыбаться ему и не хотелось. А сейчас ему хотелось улыбаться, он был весел, несмотря на дьявольскую неприятность с похищенным «мессершмиттом». Геринг сообщил, что вся ответственность за это возложена на Лерста и вообще на ведомство Гейдриха. Но у него были более веские основания сохранять веселое настроение: республиканцы откатывались по всему фронту, и, как полагали серьезные военные, дни красных теперь уже были сочтены.
– Вас еще не бросили в ваш каземат? – спросил он Штирлица. – Или рука руку моет? Я бы на вашем месте написал задним числом донос на Лерста. – Он засмеялся: – Мертвые все вынесут, они безмолвны.
– Завтра утром мы отправляем в рейх одного человека… За ним выслали наш самолет…
– Я знаю. Я жду Рудди так же, как вы…
– Кого?
– Рудди Грилля. Этот парень учился у меня летать, я люблю его, как сына. Я распорядился, чтобы он задержался здесь на день, я уже получил согласие вашего шефа.
План в Москве был разработан до мельчайших подробностей. Самолеты республиканцев барражируют на границе с Францией, над труднодоступными горными районами. Они сбивают самолет № 259. Он должен быть сбит внезапным ударом, над горами, чтобы исключить возможность радиосвязи с Бургосом. Самолет № 259 – точно такой же марки – вылетает из Барселоны и, пройдя над морем, ложится на курс сбитого эсэсовского самолета. Радисты с борта самолета по коду, переданному Штирлицем, просят доставить Пальма на поле аэродрома. Они принимают его на борт и улетают в Париж, где на аэродроме Яна ждет санитарная машина, которая доставит его в госпиталь для инфекционных больных.
Никто не мог предположить, что из сотен пилотов, совершавших рейсы из Берлина в Бургос, этот рейс будет выполнять ученик Кессельринга, который приглашен военным атташе провести день у него в доме. Тщательно запланированная операция – именно этим личностным, чисто случайным обстоятельством – была разрушена и развалилась, как карточный домик.
Штирлиц посмотрел на часы. Стрелки показывали 22.45.
(«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы хотим решить с помощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу.
Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои сомнительные стороны. Ибо она может очень легко привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ, вместо того чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно перестроить психологически немецкий народ и не спеша внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо разрешать с помощью силы. Но для этого было необязательно пропагандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если нельзя добиться по-хорошему, то надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы. Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не понимали, господа.
Многие считали, что все это какое-то извращение. Это те сверхученые интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда начнется гроза…
Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следовала за мной, именно тогда фанатично следовала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в окончательную победу…
Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так называемых отрицательных сторонах.
Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа: руководство действует правильно! Господа, мы все не гарантированы от ошибок. И газетчики подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на положительном».
Из секретного выступления Гитлера перед представителями немецкой прессы.)
– Послушайте, Пальма, – устало повторил Хаген, – что бы вы мне тут ни пели про вашу несчастную голову, я тем не менее буду повторять свои вопросы: почему вы убили Лерста? Чем вызвано было это неслыханное злодеяние, подвластное судопроизводству рейха? Так что и с формальной стороны все будет соответствующим образом оформлено. Надеюсь, вы понимаете, что здешние власти – уже задним числом – выдадут вас в руки германского правосудия?
– Повторяю: я не убивал Лерста.
– А кто же его убил? Святой Дух?
– Этот мог, – согласился Пальма.
«А ведь сейчас снова начнет бить, – подумал Ян, заметив, как передернулось лицо Хагена. – Что за манера такая? Не может возразить и сразу начинает драться… Между прочим, я сейчас подумал, как наивный идиот. Каким был тогда, на последней германской станции, когда думал испугать Лерста публичным разоблачением его издевательства над тем стариком. К этой швали применимы только зоологические градиенты… А спать я, конечно, не смогу – во мне все напряжено до предела…»
– Я жду ответа, – сказал Хаген. – Я обращаюсь к вашей логике и здравому смыслу. Расскажите мне, что произошло вчера, после того как Лерст увез вас из отеля – от вашей подруги?
(Лерст вчера гнал машину чересчур рискованно: шины тонко визжали на крутых поворотах горной дороги.
– А как звали того журналиста, который сидел в баре вместе с вами и Манцером?
– Все вы знаете обо мне! Кто вам об этом мог донести?
– Друзья, Ян, мои друзья.
– Ага, признались! Я давно подозревал, что вы не дипломат, а шпион!
– Как имя того парня, который удрал с Манцером?
– Черт его знает! То ли Джим, то ли Джек. Эти имена в Штатах так же распространены, как у вас Фриц или Ганс.
– Вы не запомнили его имени?
– Казните – не запомнил.
– Из какой он газеты?
– По-моему, он левый. Такой, знаете ли, яростный левый… Куда мы едем, кстати?
– Недалеко. А откуда вам известно, что он левый?