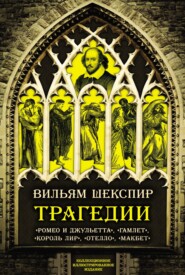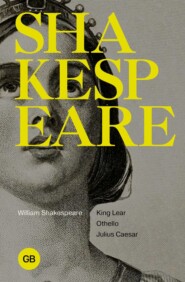По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Как вам это понравится. Много шума из ничего. Двенадцатая ночь. Перевод Юрия Лифшица
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ОРЛАНДО. Вы и родились в этих местах?
РОЗАЛИНДА. Да, как кролик, живущий в месте своего рождения.
ОРЛАНДО. Вы слишком красноречивы для пастуха; это качество нельзя приобрести в деревне.
РОЗАЛИНДА. Не вы первый заметили это. Я нахватался учтивых речей от моего престарелого и набожного дядюшки, а он – от женщин, которых любил в молодости, когда жил в столице. Слава Богу, я не женщина, а то он мне прочел столько лекций на тему о вреде любви, что, будь я женщиной, мне было бы не по себе от чудовищных обвинений, предъявляемых им всему женскому сословию.
ОРЛАНДО. А не говорил ли он вам, который из женских грехов наихудший?
РОЗАЛИНДА. Среди них трудно было выделить наихудший. Они были похожи друг на друга, как полупенсовые монетки. Не успевал я прийти в ужас от одного греха, как приходилось ужасаться другому.
ОРЛАНДО. Не могли бы вы назвать хотя бы один из них?
РОЗАЛИНДА. Нет, вам мой бальзам ни к чему. Другое дело, если бы вы оказались тем тяжелобольным, который калечит молодые деревья. Этот малый настолько боготворит свою Розалинду, что вырезает ее имя на коре, увешивает ветки боярышника одами, а ветки терновника – элегиями. Этому горе-вздыхателю я бы помог: у него, насколько я могу судить, рецидив любовного помешательства.
ОРЛАНДО. Помогите мне, прошу вас. Ведь именно меня трясет эта падучая любви.
РОЗАЛИНДА. Я вам не верю. У вас нет ни одного симптома болезни, о которой я знаю со слов дяди. Он научил меня ставить диагноз влюбленным, а вы, убежден, не являетесь постояльцем этого сумасшедшего дома.
ОРЛАНДО. А может, вы осмотрите меня как следует?
РОЗАЛИНДА. Попробую. Итак, симптом первый: впалые щеки – этого у вас нет; симптом второй: мешки под глазами – у вас таковых не наблюдается; подавленное настроение – не имеется; спутанная борода – тоже, хотя это простительно, поскольку с этого имения прибыль у вас такая, какая полагается младшему брату. Но где же неподпоясанные штаны, помятая шляпа, расстегнутые манжеты, расшнурованные башмаки, – то есть где ваша неопрятность, присущая лицам, зараженным любовной проказой? Всего этого у вас нет. Более того, ваш наряд весьма тщателен, и я скорей допущу, что вы влюблены в себя и пользуетесь взаимностью, нежели страдаете безответной любовью к кому-нибудь другому.
ОРЛАНДО. Страдаю, милый юноша, еще как страдаю! Жаль, что это выглядит так бездоказательно в ваших глазах.
РОЗАЛИНДА. В моих глазах?! Попались бы вы на глаза своей возлюбленной с такими доказательствами! Впрочем, она, скорей всего, поверила бы в вашу любовь, хотя вряд ли призналась бы в этом даже себе самой. Женщинам очень приятно обманывать себя на этот счет. Но если не шутя, неужели это вы уродуете деревья стихами, посвященными Розалинде?
ОРЛАНДО. Увы, юноша. Клянусь нежной ручкой Розалинды, это несчастный – перед вами!
РОЗАЛИНДА. Неужели эти стихи выражают всю силу вашей любви?
ОРЛАНДО. Ни стихи, ни разум человеческий не в могут выразить то, что невыразимо.
РОЗАЛИНДА. Но ведь влюбленный – это сумасшедший, и его, как всякого безумца, следует подвергнуть бичеванию и засадить под замок. И если этих идиотов не лечат таким образом, то лишь потому, что любовное безумие сродни эпидемии: оно свирепствует и среди тех, кому следовало бы стать врачами. И только я своими предписаниями исцеляю несчастных больных.
ОРЛАНДО. Неужели вы кого-то уже исцелили?
РОЗАЛИНДА. Одного исцелил. Дело было так. Я заставил его вообразить, что я – его возлюбленная. Он должен был, по моему приказу, ежедневно обхаживать меня. А я, подобно молодой луне, непрерывно менялся. Женщина в моем исполнении была то капризной и жеманной, то желанной и любящей; она представала то гордой и неприступной, то веселой и легкомысленной; порою она заливалась слезами, порою беспричинно хохотала; иногда она понарошку прикидывалась страстной, то есть поступала как дети, а дети и женщины – это ведь животные одной породы. Она то любила беднягу, то ненавидела; то звала, то прогоняла; то жалела, то высмеивала. В результате этих процедур любовная болезнь моего пациента превратилась в душевную: он вырвался из водоворота обыденности и затаился в монастырской тиши. Мое лечение пошло ему на пользу. Если хотите, я могу заняться и вашим сердцем: очищу ее от любовной копоти, промою и сделаю похожей на сердце здорового осла.
ОРЛАНДО. Нет, юноша, меня исцелить невозможно.
РОЗАЛИНДА. Для меня нет ничего невозможного. Вы только зовите меня Розалиндой и каждый день являйтесь вздыхать под мое окошко.
ОРЛАНДО. Клянусь любовью, приду. А где вы живете?
РОЗАЛИНДА. Идемте, я вам покажу. А вы расскажете, как найти вас.
ОРЛАНДО. Буду рад сделать это, милый юноша.
РОЗАЛИНДА. Нет, я теперь для вас Розалинда, привыкайте. Сестра, идем? (Уходят.)
Акт третий. Сцена третья
Другая часть леса.
Входят ТОЧИЛЛИ и ОДРИ. За ними – ЖАК.
ТОЧИЛЛИ. Милая Одри, давай вместе пасти твоих коз. Ну-с, Одри, я тебе по сердцу? Как ты относишься к моему скромному образу?
ОДРИ. Образу? Господи помилуй! Никогда бы не подумала, что вы носите с собой образ.
ТОЧИЛЛИ. С тобою, Одри, я ни дать ни взять влюбленнейший из поэтов – благородный Овидий. Я спокоен среди твоих коз, как и он, не опасаясь козней Августа, был спокоен среди готов.
ЖАК (в сторону). О образованность! Как ты оказалась в таком убожестве!
ТОЧИЛЛИ. Когда твоих стихов не слушают, когда твои остроты не попадают в цель, – это ужасней, чем для бродяги невозможность заплатить за выпивку в трактире. Почему боги не сделали так, чтобы поэзия была у тебя в чести?
ОДРИ. Постыдились бы. Я вам никакая не поэзия, я девушка честная. А много ли чести в вашей поэзии?
ТОЧИЛЛИ. Как тебе сказать. По-настоящему честная поэзия пропитана ложью. Все влюбленные падки до поэзии, поэтому их поэтические клятвы, сочиненные во имя любви, насквозь лживы.
ОДРИ. А вы смешали мою честь с этой поэзией да еще обращались к богам при этом! Век бы мне не знать вашей поэзии!
ТОЧИЛЛИ. Напрасно ты честишь поэзию. Ты вот клялась своей честью, но если бы в тебе была хоть капля поэзии, я бы смел надеяться, что ты лжешь.
ОДРИ. Разве вам не нравится, что я честная девушка?
ТОЧИЛЛИ. Ничуть. С твоею честностью тебе надо было уродиться некрасивой. А честность в сочетании с красотой – это все равно что мед, сдобренный сахаром.
ЖАК (в сторону). Ужасно умно для дурака!
ОДРИ. Но раз уж боги не создали меня красивой, пусть они помогут мне остаться честной.
ТОЧИЛЛИ. Видишь ли, честь, с которой носятся нечистоплотные дурнушки, напоминает мне добрый кусок мяса, поданный на грязном блюде.
ОДРИ. Нет, я, благодарение Богу, хоть и некрасива, зато чистоплотна.
ТОЧИЛЛИ. Если ты благодаришь Бога за некрасоту, – дай срок – будет тебе и нечистоплотность. Но я все равно на тебе женюсь. Я говорил с викарием соседней деревни, сэром Оливером Путансом. Он любезно согласился сочетать нас здесь, в лесу.
ЖАК (в сторону). Вот бы взглянуть на это бракосочетание!
ОДРИ. Дай нам Бог жить дружно!
ТОЧИЛЛИ. Аминь. Кто-нибудь другой на моем месте до смерти перепугался бы от подобной затеи. И то сказать, вместо храма лес, вместо свидетелей рогатые животные. Но что нам до чужих рогов? Мужайся, Точилли! От рогов, как это ни гнусно, не убежишь. Недаром говорят: ни один человек не знает всего изобилия, в котором живет. Еще бы! Ни единый не знает, насколько длинны его рога. Но муж тут ни при чем. Рога ему от жены вместо приданого. Рога? Именно. И не только у людей бедных, нет! У благородного оленя рога куда ветвистее, чем у сельского быка. Стало быть, благословенна участь холостяков? Ничуть. Город с каменными стенами настолько же ценнее деревни, насколько лысина рогатого женатика солиднее голого холостяцкого лба. И поскольку уметь держать оборону лучше, чем спасаться бегством, постольку наличие рогов почтеннее их отсутствия. А вот и сэр Оливер.
Входит ОЛИВЕР ПУТАНС.
Рад вас видеть, сэр Оливер. Вы совершите обряд под этим деревом или вам необходимо что-то вроде алтаря?