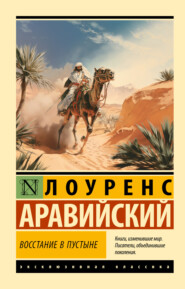По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лоуренс Аравийский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда мы опять сели на верблюдов, дорога ухудшилась, и нам пришлось беспрестанно объезжать огромные пространства, заваленные глыбами базальта, или глубокие желтые водостоки.
И вновь мы восхищались уверенностью, с которой Ауда вел нас сквозь извилины меж скал.
Истинная пустыня
После ночного привала мы на заре сели в седла и вскоре добрались до Деръа, о котором Шараф рассказал нам, что там мы найдем воду. Мы оставались тут до полудня, так как находились очень близко от железной дороги, и должны были по горло напиться воды и наполнить ею наши меха, подготовляясь к долгому переходу к Феджру.
Во время привала Ауда позаботился, чтобы двое из наших людей натерли моего верблюда маслом для устранения нестерпимого зуда вследствие коросты, недавно покрывшей его морду. Сухие пастбища страны билли и зараженная почва Ваджха произвели опустошение между нашими животными. Среди всех верховых верблюдов Фейсала не было ни одного здорового. В нашем небольшом отряде верблюды слабели с каждым днем. Насир был полон беспокойства, что в предстоящем форсированном походе многие из них падут, оставив своих всадников в пустыне на произвол судьбы.
Без четверти четыре мы уже сидели в седле, спускаясь по Вади-Деръа меж отвесными и высокими склонами изменчивых песков. Немного погодя, трое или четверо из наших людей, опередив весь отряд, ползком вскарабкались на песчаную вершину, чтобы осмотреть железную дорогу. Она казалась безлюдной.
Наши усталые верблюды смогли спокойно пересечь долину, железнодорожное полотно и следовавшую дальше равнину и затем укрылись в песках и утесах, лежавших за железной дорогой.
Между тем некоторые из наших людей подложили пироксилин под рельсы и начали поджигать запалы, наполняя пустую долину отзвуками многократных взрывов.
Ауда впервые видел динамит и с ребяческим удовольствием разразился наспех придуманными стихами о его мощи и великолепии.
Мы перерезали три телеграфных провода и привязали их концы к седлам шести верховых верблюдов. Удивленные животные отбивались от звенящей, путающейся проволоки, волочащейся за ними. Наконец мы освободили их от нее и в наступивших сумерках, смеясь, двинулись дальше.
Утром, около четырех часов, мы уже подымались в гору, пока наконец не вскарабкались на плоскогорье, с которого открывался беспредельный вид на восток. Подымающееся солнце затопляло все ярким светом и отбрасывало длинные тени.
Совсем рассвело: потоки солнечного света, падавшего прямо в лицо двигающимся фигурам, пронизывали каждый камень в пустыне.
Бедуин Феджра, любящий давать прозвища, назвал свою равнину Эль-Хоуль[33 - «Хоуль» по-арабски значит – неопределенный, странный.] по причине ее запустения; в этот день мы продвигались вперед, не встречая на своем пути признаков жизни – ни следа газели, ни ящериц, ни крыс, ни даже птиц. Мы сами чувствовали себя покинутыми в ней, и наше быстрое продвижение в ее бесконечности казалось бесплодным усилием. Единственными звуками были глухое эхо, как будто бы каменный настил, по которому шли наши верблюды, был выстлан над пустым пространством, да тихий, но резкий шелест песка, медленно подгоняемого к западу по песчаной почве горячим ветром, обтачивающим соли песчаника, так, что камни своими выдающимися остриями напоминали изъеденную кору.
Дул ветер, как из огненной печи. Днем он был так сух, что наши пересохшие губы и кожа на лицах потрескались; гноящиеся веки, казалось, не могли защищать наших щурившихся глаз. Арабы надвинули свои головные покрывала на лицо, оставив узкую щель для глаз.
Весь день мы брели вперед, изнемогая от резкого ветра, пока не наступил спокойный, темный и звездный вечер. Покрыв около пятидесяти миль, мы сделали привал.
На следующий день мы пустились в путь еще до рассвета и как раз к полудню достигли колодца, к которому стремились. Он был около тридцати футов глубины, обложен камнем и, по-видимому, древний. Вода была слегка солоновата, но не противна на вкус. Здесь была организована наша ночевка.
Как обычно, мы встали до рассвета и как раз перед заходом солнца достигли Хабра Аджаджа после утомительной езды через угрюмую равнину.
Мы нашли там воду, годную для верблюдов, но почти не пригодную для питья. Мы раньше думали, что застанем здесь племя хавейтат, но трава вся была объедена, вода загажена их верблюдами, а сами они уже уехали дальше. Ауда пытался разыскать их следы, но не смог найти ни одного: порывы ветра совершенно замели их. Однако, если бы мы повернули на север, мы могли бы их догнать.
Наступил следующий день. Несмотря на то, что, казалось, прошло бесконечно много времени, был лишь четырнадцатый день, как мы покинули Ваджх, и взошедшее солнце опять застигло нас в пути через известняковые и песчаные равнины к отдаленному краю Великой пустыни Северной Аравии – Нефуду, знаменитые цепи песчаных дюн которой отрезали Джебель Шаммар от Сирийской пустыни.
Некоторые знаменитые путешественники пересекли ее, и я попросил Ауду немного отклониться от нашего пути, чтобы вступить в пустыню, но он проворчал, что в Нефуд идут лишь в случае необходимости, во время набегов, и что сын его отца не может ехать на шатающемся чесоточном верблюде. Нашей задачей же было достигнуть Арфаджи живыми.
Поэтому мы благоразумно двинулись дальше через однообразные, блестящие пески. Они ослепительно, как зеркало, отражали солнечные лучи, и наши слабые веки не могли защитить глаз от острых стрел света, пронизывавших их. Мы почти не разговаривали друг с другом, по временам едва не лишаясь чувств, но к шести часам мы почувствовали облегчение, сделав привал для ужина.
Мы тащились еще три часа в темноте и достигли вершины песчаной гряды. Там мы сладко заснули после тяжкого дня жгучих ветров, ураганов пыли и песчаных заносов, терзавших наши воспаленные лица, а по временам, при сильных порывах, застилавших дорогу и бросавших в разные стороны наших измученных верблюдов. Но Ауда беспокоился о завтрашнем дне, так как второй противный ветер задержал бы нас в пустыне, а у нас уж не оставалось воды. Он разбудил нас и, прежде чем наступил день, мы вступили на равнину Бисайты,[34 - Бисайта означает по-арабски – крошечка и луговинка.] названную так в насмешку за ее огромные размеры и унылый вид. Ее поверхность, покрытая потемневшими от солнца голышами, оставалась темной и после восхода солнца, успокаивая наши усталые глаза, но нашим верблюдам, из которых некоторые уже хромали на израненные ноги, было жарко и трудно ступать по ней. Я и Ауда ехали впереди, выбирая удобный путь.
По дороге мы заметили вздымающуюся против ветра пыль. Ауда сказал, что там страусы. Один из его людей побежал и принес два огромных яйца цвета слоновой кости. Мы расположились позавтракать этим щедрым даром пустыни.
Насир и Несиб, заинтересованные восторгом европейцев, спешились, посмеиваясь над нами. Ауда вытащил свой кинжал с серебряной рукояткой и отбил верхушку одного из яиц, которые мы предварительно испекли. Мы почувствовали резкую вонь, словно от чумной заразы, и спаслись бегством на новое место, слабыми толчками перекатывая перед собой другое яйцо. Оно оказалось довольно свежим, но твердым, как камень. Мы выковыряли кинжалом его содержимое на гладкие камни, служившие нам тарелками, и съели его кусками, убедив даже Насира взять себе долю, хотя он никогда еще в своей жизни не падал так низко, чтобы есть яйца. Общий приговор гласил: жесткое и слишком крутое, но приемлемое для Бисайты.
Один из наших спутников заметил антилопу, подкрался к ней и убил ее. Впоследствии алчные люди хавейтат, замечая в отдалении множество антилоп, пускались в погоню за животными. Последних выдавало их белое сверкающее брюхо, делавшее заметным каждое их движение даже на большом расстоянии.
Я был слишком измучен, чтобы свернуть с пути даже ради самого редкостного в мире животного, и ехал сзади. Мой верблюд быстро нагонял караван, ускорив шаг. Наши люди боялись, что некоторые из верблюдов падут до вечера, если ветер усилится.
Среди людей племени аджейль я не мог различить одного из них – Гасима. Я поехал вперед, желая отыскать его верблюда, и наконец нашел его, но без всадника. Его вел один из людей хавейтат. Седельные сумки, винтовка и провиант были на верблюде, но сам Гасим исчез. Нам стало ясно, что несчастный отстал. Это было ужасным несчастьем, так как в туманном мареве караван не мог быть виден далее двух миль, а на земле, твердой, как железо, не оставалось никаких следов. Гасим никогда бы не смог нагнать нас пешком.
Все начали его искать, надеясь, что он находится где-нибудь в нашем растянувшемся караване, но его нигде не было.
Уже прошло много времени, и почти наступил полдень; было очевидно, что Гасим остался где-то позади, на расстоянии многих миль. Его навьюченный верблюд служил доказательством, что мы не забыли его спящим на нашем ночном привале.
Его товарищи рискнули предположить, что он задремал в седле и свалился, оглушенный или убившись при падении, или что кто-либо свел с ним старинные счеты. Во всяком случае, они ничего не знали. Он был злонравным чужаком, и они не слишком волновались.
Я нерешительно смотрел на них и на минуту задумался, могу ли я послать кого-либо из них назад на моем верблюде, чтобы спасти Гасима. Если бы я уклонился от этого долга, то это оправдали бы тем, что я иностранец. Но это было слабым доводом для человека, который намеревался помогать арабам в их восстании.
Во всяком случае, иностранцу было очень тяжело оказывать влияние на национальное движение другого народа, а особенно тяжело для христианина и оседлого человека управлять кочевниками-мусульманами. Я исключил бы для себя эту возможность, если бы пытался пользоваться одновременно привилегиями тех и других.
Вот почему, не сказав ни слова, я повернул моего упиравшегося верблюда и поехал обратно в пустыню. Настроение мое было далеко не героическим, так как меня взбесили остальные люди и то, что я изображал собою бедуина, а больше всего сам Гасим, ворчливый парень с редкими зубами, скверного нрава, подозрительный, грубый человек, от которого я дал себе слово избавиться при первой возможности. Казалось нелепым, что я должен был подвергнуть опасности свое участие в арабском восстании ради одного нестоящего человека.
Мой верблюд глухим ворчанием, казалось, выражал те же чувства.
В течение всех последних дней я замечал направление по своему компасу и надеялся с его помощью вернуться к месту нашего отправления в семнадцати милях позади.
Я скакал в течение полутора часов, когда внезапно заметил впереди себя что-то похожее на какую-то фигуру, большой куст, во всяком случае что-то черное. Изменчивое марево искажало размеры и расстояние, но этот предмет, казалось, двигался. Я наудачу повернул туда своего верблюда и через несколько минут разглядел, что это был Гасим. Когда я окликнул его, он нерешительно остановился. Я подъехал и увидел, что он почти ослеп и стоит с глупым видом, открыв рот и протягивая руки ко мне. Наши люди налили в мои меха нашу последнюю воду, и он судорожно расплескал ее по лицу и груди, спеша напиться. Затем он залепетал, изливая свои горести. Я посадил его на круп верблюда и повернул обратно.
Гасим трогательно сетовал на муку и ужас жажды. Я велел ему перестать, но он продолжал, все время съезжая с седла. При каждом шаге верблюда он шумно падал на его круп, пришпоривая его этим так же, как своим плачем. Мы легко могли надорвать верблюда. Я опять велел ему перестать, и как только он взвизгнул погромче, я ударил его, поклявшись, что при первом же звуке сброшу его прочь. Угроза подействовала. После нее он молчаливо и судорожно вцепился в седло.
Я не проехал и четырех миль, как опять увидал темную тень, подвигающуюся вперед, покачиваясь, и маячившую в мареве. Она раскололась натрое и увеличилась. Я подумал, что это враг. Минуту позднее туман рассеялся с внезапностью призрака, и я узнал Ауду с двумя из людей Насира, вернувшихся назад, чтобы отыскать меня. Я подтрунивал над ними, что они покинули друга в пустыне. Ауда дернул себя за бороду и проворчал, что если бы он присутствовал при этом, я бы никогда не поехал обратно.
Гасима с бранью перенесли на седельную подушку лучшего ездока, и мы медленно двинулись вперед.
Через час мы присоединились к Насиру и Несибу. Несиб сердился на меня за то, что я из прихоти подверг опасности жизнь Ауды и свою собственную. Ему был ясен мой расчет, что они вернутся за мной. Насир же чувствовал стыд за свою недостаточную осторожность, над которой в дальнейшем Ауда подтрунивал, противопоставляя солидарность людей пустыни эгоизму горожанина.
Это маленькое приключение отняло у нас несколько часов, и остальная часть дня казалась не такой длинной, хотя зной и усилился. Мы ехали плоской и ровной дорогой до пяти часов дня, когда мы увидали впереди низкие валы и немного погодя очутились в сравнительно покойном убежище меж песчаных холмов, заросших скудным тамариском. Это были сирханские холмы Касима.
Кусты и дюна задерживали ветер, солнце заходило, и мягкий вечер опускался на нас, окрасив все в красный цвет. Поэтому я записал в своем дневнике, что Сирхан – прекрасное место.
Не имея ни глотка воды, мы, разумеется, ничего не ели, – нам предстояла ночь воздержания. Но уверенность в том, что завтра мы напьемся досыта, дала нам возможность легко уснуть, лежа на животе, чтобы он не пучился от голода.
На следующее утро мы пустились по откосам через целый ряд вершин, отстоящих в трех милях друг от друга. В восемь часов мы, наконец, спешились у колодцев Арфаджи. Повсюду вокруг нас сладко благоухали кусты. Колодцы без ограды имели глубину в восемнадцать футов. Вода из них была солоновата на вкус и с сильным душистым запахом. Мы нашли ее превосходной, и так как повсюду росла зелень, пригодная в пищу для верблюдов, мы решили остаться здесь на день.
Пиршества арабских племен
На следующее утро мы совершили быстрый пятичасовой переход (наши верблюды были полны сил после вчерашнего отдыха) к оазису из хилых пальм с разбросанной вокруг зеленью тамариска. Вода, имевшаяся в изобилии, казалась вкуснее, чем в Арфадже. Все же и она оказалась «сирханской водой», которая казалась сносной вначале, но после двухдневного сохранения в закрытом сосуде приобретала отвратительный запах и вкус, делавшие ее непригодной.
Нам действительно надоел Вади-Сирхан, хотя Несиб и Зеки все еще обдумывали планы улучшения и культивирования здешних мест для арабского правительства, когда последнее будет образовано. Подобное неумеренное воображение являлось типичным для сирийцев, легко убеждавших себя в осуществлении их планов и так же легко и охотно сваливавших свою ответственность за их невыполнение на других.
– Зеки, – сказал я однажды, – твой верблюд весь в чесотке.
– Да, – печально согласился он, – вечером, когда солнце сядет, мы смажем его кожу мазью.
В следующий наш переезд я опять упомянул про чесотку.