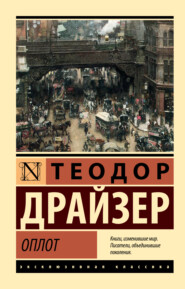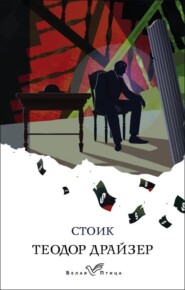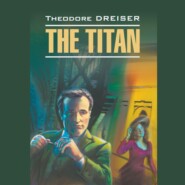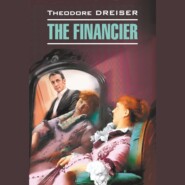По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1912
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она замерла, глядя на письмо, поскольку никак не могла собраться с мыслями. Несмотря на их осторожность, она часто замечала, как дружелюбно Эйлин относится к ее мужу и какое внимание он проявляет к ней. Она ему нравилась, и он не упускал ни одной возможности заступиться за нее. Лилиан иногда думала об удивительном сходстве их характеров. Ему вообще нравились молодые люди. Но разумеется, он был женат, а Эйлин находилась неизмеримо ниже его по социальному положению; кроме того, у него были дети. Его деловой и общественный статус казался таким прочным и незыблемым, что этим не следовало пренебрегать. И все же она колебалась. Если женщине исполнилось сорок лет, если она имеет двоих детей, легкие морщины и подозревает, что ее любят не так сильно, как раньше, может ли это служить причиной для важного решения в таких обстоятельствах? Где она будет жить, если оставит его? Что подумают люди? Как быть с детьми? Сможет ли она доказать эту связь? Удастся ли ей застигнуть его в компрометирующей ситуации? Хочет ли она этого?
Теперь она понимала, что не любит его так, как некоторые женщины любят своих мужей. Она не сходила с ума по нему. В определенном смысле все эти годы она воспринимала его как нечто должное. Она полагала, что он достаточно любит ее, чтобы не изменять. По крайней мере, она воображала, что он настолько занят более серьезными вещами, что никакие мелочные связи, вроде указанных в письме, не могут нарушить его душевный покой или отвлечь от продолжения удачной карьеры. Очевидно, это оказалось неправдой. Но что ей делать? Что сказать? Как ей следует действовать? Ее далеко не блестящий ум был небольшим подспорьем в такой критической ситуации. Она плохо представляла, как строить планы на будущее или бороться за свои интересы.
Заурядный ум в лучшем случае способен на мелкие планы. Он похож на устрицу, или, вернее сказать, на двустворчатого моллюска. Его узкий сифон мыслительных процессов вынужден процеживать бескрайний океан фактов и обстоятельств, но он улавливает так мало полезного и работает так слабо, что основная масса причин и следствий остается непотревоженной. Никакие жизненные премудрости не доходят до восприятия. Все жизненные бури остаются незамеченными, не считая случайных столкновений. Когда грубый и недвусмысленный намек, каким было это письмо, неожиданно всплывает посреди мирного течения жизни, начинается большое волнение и смятение жизненных процессов. Сифон не работает как следует. Он вибрирует от страха и расстройства. Шестеренки его механизма скрежещут от попавшего в него песка – и жизнь, как это часто бывает, либо идет по кривой дорожке, либо прекращается.
Миссис Каупервуд обладала заурядным умом. Она ничего не знала о настоящей жизни, и жизнь ничему не научила ее. В солоноватых водах ее мыслительных процессов бурные реакции были невозможны. Она не была живой в таком же смысле, как Эйлин Батлер, но считала себя вполне живой. Но это была иллюзия. Она была очаровательной, если вы любите безмятежность. Она не была обаятельной, блестящей или властной женщиной. Фрэнку Каупервуду с самого начала следовало спросить себя, почему он хочет жениться на ней. Он и сейчас не делал этого, так как не считал разумным рассуждать о прошлых ошибках или неудачах. По его мнению, такие сожаления были бесплодными. Он смотрел в будущее, его мысли были обращены в будущее.
Но миссис Каупервуд по-своему была глубоко расстроена и ходила по дому, размышляя и чувствуя себя несчастной. Поскольку в письме предлагалось «убедиться самой», она решила выждать. Нужно обдумать, как проследить за домом. Фрэнк ничего не должен знать. Если это окажется Эйлин Батлер – хотя нет, этого не может быть, – то она все расскажет ее родителям. Впрочем, она не хотела подставлять себя под удар. Она решила как можно лучше скрыть свои чувства за обедом, но Каупервуд так и не пришел. Он так был занят переговорами с разными людьми, так долго совещался с отцом и другими, что она почти не видела его ни вечером в понедельник, ни на следующий день, ни еще несколько дней.
Во вторник в половине третьего он назначил встречу со своими кредиторами, а в половине шестого решил передать дела ликвидационной комиссии. Тем не менее, когда он стоял перед группой кредиторов – в его офисе собралось не менее тридцати человек, – он не чувствовал, что его жизнь лежит в руинах. У него были временные финансовые трудности. Конечно, дела выглядели хуже некуда. Сделка с городской казной уже стала темой для пересудов. Оставленные в залоге сертификаты городского займа обещали очередной скандал, если Стинер решит дать ход этому делу. И все же он не считал себя полным банкротом.
– Джентльмены, – произнес он после вступительной речи с объяснениями, такими же прямыми, откровенными и убедительными, как раньше, – теперь вы понимаете, как обстоят дела. Эти ценные бумаги стоят ровно столько, сколько и раньше. Собственность, которая стоит за ними, осталась неизменной. Если вы дадите мне пятнадцать или двадцать дней, я уверен, что смогу поправить свои дела. Я едва ли не единственный человек, который может это сделать, так как все знаю об этом. Рынок должен восстановиться. Дела будут идти лучше, чем раньше. Мне нужно лишь немного времени. Это единственный важный фактор в данной ситуации. Я хочу знать, можете ли вы предоставить мне отсрочку на пятнадцать-двадцать дней или на один месяц, если это возможно. Это все, чего я хочу.
Он отступил в сторону и ушел в свой кабинет из общей залы с опущенными шторами, чтобы дать своим кредиторам возможность посовещаться наедине и принять окончательное решение. На этом совещании были его друзья, которые выступали за него. Он ждал час, два часа, почти три часа, пока они спорили. Наконец Уолтер Лейф, судья Китчен, Эйвери Стоун из «Джей Кук и К?» и еще несколько человек пришли к нему. Их выбрали для объявления вердикта.
– Сегодня больше ничего нельзя сделать, Фрэнк, – тихо сообщил Уолтер Лейф. – Большинство высказывает желание изучить твою бухгалтерскую отчетность. Есть некое опасение в связи с твоими запутанными отношениями с городским казначеем, о которых ты упоминал. Они полагают, что тебе лучше объявить о временной неплатежеспособности, а потом, возможно, тебе и помогут, если ты сможешь возобновить операции.
– Прошу прощения, джентльмены, – отозвался Каупервуд, ничуть не расстроенный этой новостью. – Лучше я разорюсь, чем объявлю себя банкротом хотя бы на час, поскольку мне известно, что это значит. Вы обнаружите, что мои активы значительно превосходят мои обязательства, если оценить акции по нормальной рыночной стоимости, но все это ни к чему, если я закроюсь. Публика не поверит мне. Я должен продолжать работу.
– Извини, старина Фрэнк, – сказал Лейф, дружески сжав его локоть. – Если бы дело касалось лично меня, ты имел бы сколько угодно времени. Но тут толпа старых идиотов, которые не хотят слышать голос разума. Они охвачены паникой. Думаю, их тоже крепко приложило, так что ты едва ли можешь винить их. С тобой все будет в порядке, хотя мне хотелось бы, чтобы ты не закрывал лавочку. Так или иначе мы ничего не можем поделать с ними. Черт побери, старик, я и правда не верю, что ты можешь обанкротиться. Через десять дней эти акции поднимутся до нормального уровня.
Судья Китчен тоже выразил соболезнования, но что толку от этого? Его принуждали к банкротству. Опытный бухгалтер должен был прийти и проверить его расчетные книги. Батлер мог распространить слухи о его связи с городским казначейством. Стинер мог подать жалобу на его последнюю сделку с сертификатами городского займа. Полдюжины друзей Каупервуда, готовых помочь ему, оставались с ним до четырех утра, и все-таки ему пришлось объявить о приостановке операций. Когда он делал это, то понимал, что потерпел тяжелый удар, если не полное поражение в своей гонке за славой и богатством.
Оставшись наконец наедине с самим собой в спальне, он посмотрел на себя в зеркало. Он подумал, что выглядит бледным и усталым, но оставался сильным и собранным. «Ха! – сказал он себе. – Я еще молод и рано или поздно выберусь из этой заварушки. Обязательно выберусь. Я найду какой-нибудь выход».
Он устало вздохнул и начал раздеваться. Он опустился на кровать и, как ни странно, учитывая неприятности, обступившие его со всех сторон, через короткое время уснул. Он мог это сделать – заснуть и мирно похрапывать, – в то время как его отец безутешно расхаживал в своей комнате. Для пожилого человека впереди был сплошной мрак и будущее выглядело безнадежным. У его сына еще оставалась надежда.
Лилиан Каупервуд ворочалась и металась в своей постели перед лицом этой новой беды. Из новостей, полученных от его отца, самого Фрэнка, Анны и свекрови, ей вдруг стало ясно, что Фрэнк близок к банкротству или уже обанкротился, – было почти невозможно сказать, что случилось. Фрэнк был слишком занят для объяснений. Кажется, все началось из-за пожара в Чикаго. Никто еще не упоминал о городском казначействе. Фрэнк попал в ловушку и боролся за жизнь.
В этот критический момент она на время забыла о письме, сообщавшем о его измене; вернее, перестала думать о нем. Она была потрясена, испугана, ошеломлена и сбита с толку. Ее маленький, благолепный, прекрасный мир слетел со своей оси. Великолепный, богато украшенный корабль их фортуны болтался по волнам без руля и ветрил. Она чувствовала, что должна оставаться в постели и постараться заснуть, но ее глаза были широко распахнуты, а мысли причиняли боль. Еще несколько часов назад Фрэнк настаивал, что ей не о чем беспокоиться и что она не должна ничего предпринимать; она ушла от него, задаваясь доселе неведомым вопросом, в чем состоит ее долг и как лучше исполнить его. Традиция подсказывала ей держаться рядом с мужем, и она решила это сделать. Так диктовали религия и общественные нравы. У них были дети, которые не должны пострадать. Фрэнка нужно вернуть, если это еще возможно. Он это переживет. Но какой тяжкий удар!
Глава 31
Известие о временном закрытии банкирского дома «Фрэнк А. Каупервуд и К?» вызвало большой переполох на фондовой бирже и во всей Филадельфии. Оно было совершенно неожиданным, а его масштаб оказался огромным. Общая задолженность составляла миллион двести пятьдесят тысяч долларов, а активы из-за существенного падения стоимости акций едва достигали семисот пятидесяти тысяч долларов. Была проведена тщательная проверка бухгалтерского баланса, прежде чем цифры были преданы огласке; когда это случилось, акции упали еще на три пункта, а в газетах на следующий день появились скандальные заголовки. Каупервуд не собирался объявлять себя полным банкротом; он хотел временно прекратить платежи, а затем, по возможности, надавить на кредиторов и возобновить операции. Но возникли две преграды: дело о пятистах тысячах долларов, взятых из городской казны под смехотворно низкий процент, ясно показывало, как на самом деле велись дела, и вопрос о чеке на шестьдесят тысяч долларов. Коммерческое чутье подсказывало ему способы ассигнования его активов в пользу наиболее крупных кредиторов, которые впоследствии будут поддерживать возобновление его деятельности; это нужно было сделать как можно скорее. Харпер Стэджер уже составил список предпочтительных кредиторов, в который включил «Джей Кук и К?», «Эдвард Кларк и К?», «Дрексель и К?» и других. Каупервуд понимал, что хотя недовольные мелкие акционеры подадут судебные иски и потребуют пересмотра преимущественных прав или банкротства, явное предпочтение наиболее влиятельных сторонников будет иметь важное значение. Им это понравится, что может оказаться полезным для него, когда все успокоится. Кроме того, многочисленные судебные иски были превосходным способом потянуть время и дождаться, пока рынок не восстановится вместе со здравым смыслом. А судиться нужно будет со многими. Даже Харпер Стэджер саркастически улыбался, когда они оценивали свои перспективы, хотя во времена финансового хаоса редко кто улыбался.
– Фрэнк, ты просто чудо, – сказал он. – Скоро здесь возникнет такая паутина исков, которую никто не сможет порвать. Все будут судиться друг с другом.
Каупервуд улыбнулся в ответ.
– Мне нужно лишь немного времени, только и всего, – сказал он. Впервые он был немного удручен; то дело, которому он посвятил годы усердного труда и умственных затрат, завершилось.
Больше всего его беспокоили не пятьсот тысяч долларов, которые он задолжал городской казне, хотя он понимал, это взбудоражит общественную и политическую жизнь города, когда новость просочится наружу; это была законная или, по крайней мере, почти законная сделка. Нет, его беспокоили сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов, которые он не смог вернуть в амортизационный фонд и теперь уже не смог бы это сделать, даже если бы деньги упали к нему с неба. Их отсутствие было самой серьезной проблемой, и он много думал о сложившейся ситуации. Он решил, что может обратиться к Молинауэру или Симпсону либо сразу к обоим – он не был знаком с ними, но после разрыва с Батлером только они могли помочь ему, – и заверить их, что сейчас он не может вернуть в казну пятьсот тысяч долларов, но если против него не будет возбуждено дело, он дает слово спустя время вернуть все до последнего доллара. Если они откажутся и ему будет предъявлено обвинение, пусть они дожидаются, пока он не «будет готов», – чего, по всей вероятности, не произойдет никогда. На самом деле было не ясно, каким образом даже они могли бы предотвратить его судебное преследование. В его бухгалтерских книгах деньги числились как долг перед казначейством, а в книгах казначейства – как ссуда на его имя. Кроме того, существовала местная общественная организация под названием Гражданская ассоциация муниципальных реформ, которая время от времени проводила расследования в связи с публичными скандалами. Его растрата, несомненно, дойдет до сведения этого уважаемого учреждения, и будет проведено открытое расследование. Отдельные люди уже знали об этом, к примеру, его кредиторы, которые сейчас изучали его балансовые отчеты.
Вопрос встречи с Молинауэром, Симпсоном или обоими так или иначе имел важное значение, но перед этом Каупервуд решил посоветоваться с Харпером Стэджером. Поэтому через несколько дней после закрытия своего банка он послал за Стэджером и все ему рассказал о последней сделке, хотя и не дал понять, что он не собирался возвращать сертификаты в амортизационный фонд до того, как поправит свои дела.
Харпер Стэджер был высоким, подтянутым и довольно элегантным мужчиной с мягким голосом и безупречными манерами, чья походка напоминала крадущегося кота, почуявшего близость собаки. Он имел худощавое удлиненное лицо того типа, который привлекает женщин. У него были голубые глаза и каштановые волосы с рыжеватым оттенком. Его ровный, пристальный взгляд иногда был устремлен на собеседника поверх худой, изящной руки, которой он задумчиво касался своего подбородка. Он был крайне жесток, но не агрессивен и равнодушен, поскольку ни во что не верил. Он не был беден и даже родился в зажиточной семье. Он обладал врожденной чуткостью и созидательным складом ума, но почти единственным стимулом к работе для него было достижение известности и богатства. Каупервуд представлял для него прекрасную возможность добиться того и другого. Кроме того, он был замечательным собеседником. Из всех своих клиентов Стэджер больше всего восхищался Каупервудом.
– Пускай они подадут иск против тебя, – сказал он после того, как его блестящий ум мгновенно оценил юридические аспекты ситуации. – Я не вижу здесь чего-то более серьезного, чем формальное обвинение. Если дело дойдет до суда – хотя не думаю, что это случится, – обвинение может быть основано на присвоении чужой собственности или растрате. В данном случае средства были переданы тебе на ответственное хранение. Единственным выходом будет клятвенное заверение, что ты получил этот чек с ведома Стинера и при его согласии. Тогда это будет выглядеть лишь как формальное обвинение в безответственности с твоей стороны, и я не верю, что любой суд может приговорить тебя с учетом свидетельств, как были выстроены ваши отношения. Тем не менее так может случиться; никогда нельзя угадать, какое решение вынесет суд присяжных. Как мне представляется, все будет зависеть от того, кому будут более склонны поверить присяжные – тебе или Стинеру, и от того, насколько городские воротилы захотят сделать Стинера козлом отпущения. Все дело в предстоящих выборах. Если бы кризис случился в любое другое время…
Каупервуд жестом прервал его речь. Он уже все знал об этом.
– Сомневаюсь, что все будет зависеть от того, какое решение примут политические круги, – сказал он. – Ситуация слишком сложная, и ее будет трудно замять. Что будет, то и будет.
Они сидели в кабинете Каупервуда на втором этаже его особняка.
– Я хочу знать, Харпер, какие юридические последствия мне грозят, если, как ты выразился, против меня выдвинут обвинение в незаконном присвоении имущества и признают виновным, – продолжал он. – Каков максимальный срок заключения в данном случае?
Стэджер немного подумал, потирая подбородок длинными пальцами.
– Давай посмотрим, – сказал он. – Это серьезный вопрос, не так ли? По закону полагается от одного до пяти лет, но в случае растраты средний срок колеблется от одного до трех лет. Разумеется, в данном случае…
– Мне все известно об этом, – раздраженно перебил Каупервуд. – Мой случай не слишком отличается от остальных, и ты это знаешь. Растрата есть растрата, если так захотят местные политиканы.
Он глубоко задумался, а Стэджер встал и стал небрежно расхаживать по комнате. Он тоже размышлял.
– И я могу отправиться в тюрьму в любое время судебного разбирательства еще до того, как будет вынесено окончательное решение в высших инстанциях? – угрюмо спросил Каупервуд через некоторое время.
– Да, во всех судебных процедурах такого рода есть одно обстоятельство, – осторожно ответил Стэджер, который теперь теребил мочку уха и старался выражаться как можно деликатнее. – Ты можешь избегать тюремного приговора на всех ранних этапах слушаний такого дела, но когда тебя признают виновным и выносят промежуточный приговор, чертовски трудно что-либо поделать. Фактически тогда ты обязан отправиться в тюрьму на пять-шесть дней, пока не будет подано ходатайство о пересмотре дела и получено свидетельство обоснованного сомнения в приговоре[30 - Примерный аналог кассационной жалобы. Тогда в США она разделялась на две процедуры: ходатайство о пересмотре дела в суде текущей или высшей инстанции и «свидетельство обоснованного сомнения» со ссылками на соответствующие статьи законодательства.]. Обычно это требует примерно столько же времени.
Молодой банкир выпрямился, глядя в окно.
– Все довольно сложно, не так ли? – заметил Стэджер.
– Да, я бы так сказал, – отозвался Фрэнк и тихо добавил: – Тюрьма! Пять дней в тюрьме!
Что ни говори, это будет жуткая оплеуха. Пять дней до подачи ходатайства и получения свидетельства, если оно вообще будет получено! Сесть за решетку? Он должен избежать этого! Его коммерческая репутация не переживет такого позора.
Глава 32
Необходимость в последнем совещании между Батлером, Молинауэром и Симпсоном стремительно нарастала, так как ситуация ухудшалась с каждым часом. Третья улица полнилась слухами о том, что, помимо невозможности возместить крупные убытки, понесенные в результате еще не улегшейся паники на фондовом рынке после пожара в Чикаго, Каупервуд и Стинер либо Стинер при соучастии Каупервуда пробили в городской казне дыру размером в пятьсот тысяч долларов. Вопрос заключался в том, как замять это дело, так как до выборов оставалось еще несколько недель. Банкиры и брокеры обменивались друг с другом странными слухами о чеке, полученном в городском казначействе без согласия Стинера уже после того, как Каупервуд осознал свое грядущее банкротство. Существовала опасность, что это дойдет до сведения очень неудобной политической организации, известной как Гражданская ассоциация муниципальных реформ, президентом которой был известный сталелитейщик и человек кристальной честности и нравственности, некий Скелтон К. Уит. Этот Уит годами следовал по пятам городской администрации, где преобладали республиканцы, тщетно пытаясь пресечь творившееся там беззаконие. Он был серьезным и суровым человеком, одним из тех лицемерных праведников, которые смотрят на жизнь через призму гражданского долга и, нечувствительные к любым плотским страстям или увлечениям, доходят до крайностей в своей поддержке десяти заповедей в том виде, как они это понимают.
Ассоциация была сформирована для борьбы со злоупотреблениями в налоговом департаменте и с тех пор перед каждыми очередными выборами старалась подтвердить свою полезность в газетных публикациях или несмелым «исправлением» какого-нибудь мелкого чиновника, которое обычно завершалось вдали от всеобщих глаз за кулисами высших политических кругов в лице Батлера, Симпсона и Молинауэра. Сейчас ей не хватало необходимого топлива и боеприпасов, но обвинение в преступной связи Каупервуда с городским казначейством, по мнению некоторых политиков и банкиров, могло снабдить ее долгожданной дубиной для праведного гнева.
Однако решающая встреча между влиятельными политическими силами произошла через пять дней после объявления о его неплатежеспособности в доме сенатора Симпсона, находившемся на Риттенхаус-сквер – центральном районе потомственных богачей Филадельфии. Симпсон, из квакерской семьи, обладал отменным художественным вкусом и огромным влиянием, которым он пользовался для построения своей политической карьеры. Он мог быть необыкновенно щедрым, если за деньги можно было получить могущественных союзников и полезных приверженцев, и раздавал должности мировых судей, председателей фондов, ревизоров, делал политические и административные назначения тем, кто преданно и беспрекословно ему подчинялся. Он был более могущественным, чем Батлер и Молинауэр, ибо представлял интересы штата и государства в целом. Когда политические власти, которые пытались склонить результат общенациональных выборов в ту или иную сторону, интересовались мнением штата Пенсильвания, и Республиканской партии в частности, они обращались к сенатору Симпсону. Он досконально знал обо всем, что творится в его вотчине. Симпсон уже давно перестал быть провинциальным политиком и в масштабах политики государственной представлял собой влиятельную фигуру в сенате США в Вашингтоне, где его голос во всех официальных и финансовых вопросах обладал немалым весом.
Его четырехэтажный дом в венецианском стиле имел разнообразные следы этого увлечения: и окна с цветочным орнаментом, и дверь со стрельчатой аркой, и медальоны цветного мрамора, вделанные в стены, – сенатор был большим почитателем венецианских красот. Он часто бывал в Венеции, Риме и Афинах, привозил оттуда произведения искусства и старинные статуэтки. К примеру, ему нравились суровые скульптурные бюсты римских императоров и фрагменты статуй богов и богинь – красноречивые свидетельства высоких устремлений античной культуры. В мезонине дома находилось одно из его главных сокровищ – украшенная цветочной резьбой стела с остроконечным верхом, увенчанная козлиной головой Пана, и лепные осколки прекрасной нагой нимфы – только ножки, обломанные у лодыжек. Основание стелы у ног нимфы было покрыто резными бычьими черепами, переплетенными ветвями роз. В приемной стояли копии статуй Нерона, Калигулы и других римских императоров, а вдоль лестниц шли барельефы нимф и жрецов, подгонявших жертвенных животных к алтарям. Где-то в доме стояли часы, отбивавшие каждую четверть часа непривычным благозвучным жалостливым звоном. Стены комнат были затянуты фламандскими гобеленами, а в приемной, гостиной и библиотеке стояла резная мебель, изготовленная по образцам итальянского ренессанса. Сенатор не слишком хорошо разбирался в живописи и не вполне доверял своему вкусу, но полотна в его доме были настоящие. Он уделял большое внимание своим горкам со всевозможными безделушками, включая бронзовые статуэтки, венецианское стекло и китайский нефрит. Он не был коллекционером в общепринятом смысле, он просто был любителем редкостных вещиц. Экзотические тигровые и леопардовые шкуры, покрывало из шерсти мускусного быка на диване, выдубленная бронзовая козлиная и овечья кожа для обивки столов – все создавало впечатление элегантности и сдержанной роскоши. Столовая была устроена в стиле жакоб. Представлениям о прекрасном отвечал и винный погреб, заботливо пополняемый местными виноделами. Сенатор был человеком, привыкшим жить на широкую ногу, и когда в его резиденцию приглашали на обеды, приемы или балы, там собирались сливки городского общества.
Совещание проходило в библиотеке сенатора, он принял коллег с радушием человека, которому было нечего терять, но который мог многое получить. Были поданы бутылки виски, вина и сигары, и после того как Симпсон и Молинауэр обменялись общими фразами в ожидании прибытия Батлера, они закурили, думая каждый о своем.
Так получилось, что накануне днем Батлер узнал от окружного прокурора Дэвида Петти о чеке на шестьдесят тысяч долларов. Молинауэр узнал об этом непосредственно от Стинера. Именно Молинауэр, а не Батлер, усмотрел в этом возможность извлечь выгоду из положения Каупервуда, спасти местное отделение Республиканской партии от позора и избавить Каупервуда от его трамвайных акций втайне от Симпсона и Батлера. Нужно было лишь запугать его личной угрозой судебного преследования.
Вскоре явился Батлер с извинениями за задержку. Он, скрывая свое горе за внешним благодушием, произнес:
– Наступают веселые времена, и каждый банк хочет знать, как получить обратно свои долги.
Он взял сигару и чиркнул спичкой.
– Да, выглядит угрожающе, – с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. – Садитесь, садитесь. Недавно я побеседовал с Эйвери Стоуном из «Джей Кук и К?», и он сказал, что слухи о связи Стинера с банкротством этого Каупервуда ходят по всей Третьей улице и что газеты скоро раструбят об этом, если не принять меры. Я также уверен, что это известие скоро дойдет до мистера Уита из Ассоциации муниципальных реформ. Джентльмены, мы должны решить, что делать. В одном я уверен: нам следует без шума вычеркнуть Стинера из списка партийных кандидатов. Мне представляется, что это может стать серьезной проблемой, и мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить дальнейшие последствия.
Теперь она понимала, что не любит его так, как некоторые женщины любят своих мужей. Она не сходила с ума по нему. В определенном смысле все эти годы она воспринимала его как нечто должное. Она полагала, что он достаточно любит ее, чтобы не изменять. По крайней мере, она воображала, что он настолько занят более серьезными вещами, что никакие мелочные связи, вроде указанных в письме, не могут нарушить его душевный покой или отвлечь от продолжения удачной карьеры. Очевидно, это оказалось неправдой. Но что ей делать? Что сказать? Как ей следует действовать? Ее далеко не блестящий ум был небольшим подспорьем в такой критической ситуации. Она плохо представляла, как строить планы на будущее или бороться за свои интересы.
Заурядный ум в лучшем случае способен на мелкие планы. Он похож на устрицу, или, вернее сказать, на двустворчатого моллюска. Его узкий сифон мыслительных процессов вынужден процеживать бескрайний океан фактов и обстоятельств, но он улавливает так мало полезного и работает так слабо, что основная масса причин и следствий остается непотревоженной. Никакие жизненные премудрости не доходят до восприятия. Все жизненные бури остаются незамеченными, не считая случайных столкновений. Когда грубый и недвусмысленный намек, каким было это письмо, неожиданно всплывает посреди мирного течения жизни, начинается большое волнение и смятение жизненных процессов. Сифон не работает как следует. Он вибрирует от страха и расстройства. Шестеренки его механизма скрежещут от попавшего в него песка – и жизнь, как это часто бывает, либо идет по кривой дорожке, либо прекращается.
Миссис Каупервуд обладала заурядным умом. Она ничего не знала о настоящей жизни, и жизнь ничему не научила ее. В солоноватых водах ее мыслительных процессов бурные реакции были невозможны. Она не была живой в таком же смысле, как Эйлин Батлер, но считала себя вполне живой. Но это была иллюзия. Она была очаровательной, если вы любите безмятежность. Она не была обаятельной, блестящей или властной женщиной. Фрэнку Каупервуду с самого начала следовало спросить себя, почему он хочет жениться на ней. Он и сейчас не делал этого, так как не считал разумным рассуждать о прошлых ошибках или неудачах. По его мнению, такие сожаления были бесплодными. Он смотрел в будущее, его мысли были обращены в будущее.
Но миссис Каупервуд по-своему была глубоко расстроена и ходила по дому, размышляя и чувствуя себя несчастной. Поскольку в письме предлагалось «убедиться самой», она решила выждать. Нужно обдумать, как проследить за домом. Фрэнк ничего не должен знать. Если это окажется Эйлин Батлер – хотя нет, этого не может быть, – то она все расскажет ее родителям. Впрочем, она не хотела подставлять себя под удар. Она решила как можно лучше скрыть свои чувства за обедом, но Каупервуд так и не пришел. Он так был занят переговорами с разными людьми, так долго совещался с отцом и другими, что она почти не видела его ни вечером в понедельник, ни на следующий день, ни еще несколько дней.
Во вторник в половине третьего он назначил встречу со своими кредиторами, а в половине шестого решил передать дела ликвидационной комиссии. Тем не менее, когда он стоял перед группой кредиторов – в его офисе собралось не менее тридцати человек, – он не чувствовал, что его жизнь лежит в руинах. У него были временные финансовые трудности. Конечно, дела выглядели хуже некуда. Сделка с городской казной уже стала темой для пересудов. Оставленные в залоге сертификаты городского займа обещали очередной скандал, если Стинер решит дать ход этому делу. И все же он не считал себя полным банкротом.
– Джентльмены, – произнес он после вступительной речи с объяснениями, такими же прямыми, откровенными и убедительными, как раньше, – теперь вы понимаете, как обстоят дела. Эти ценные бумаги стоят ровно столько, сколько и раньше. Собственность, которая стоит за ними, осталась неизменной. Если вы дадите мне пятнадцать или двадцать дней, я уверен, что смогу поправить свои дела. Я едва ли не единственный человек, который может это сделать, так как все знаю об этом. Рынок должен восстановиться. Дела будут идти лучше, чем раньше. Мне нужно лишь немного времени. Это единственный важный фактор в данной ситуации. Я хочу знать, можете ли вы предоставить мне отсрочку на пятнадцать-двадцать дней или на один месяц, если это возможно. Это все, чего я хочу.
Он отступил в сторону и ушел в свой кабинет из общей залы с опущенными шторами, чтобы дать своим кредиторам возможность посовещаться наедине и принять окончательное решение. На этом совещании были его друзья, которые выступали за него. Он ждал час, два часа, почти три часа, пока они спорили. Наконец Уолтер Лейф, судья Китчен, Эйвери Стоун из «Джей Кук и К?» и еще несколько человек пришли к нему. Их выбрали для объявления вердикта.
– Сегодня больше ничего нельзя сделать, Фрэнк, – тихо сообщил Уолтер Лейф. – Большинство высказывает желание изучить твою бухгалтерскую отчетность. Есть некое опасение в связи с твоими запутанными отношениями с городским казначеем, о которых ты упоминал. Они полагают, что тебе лучше объявить о временной неплатежеспособности, а потом, возможно, тебе и помогут, если ты сможешь возобновить операции.
– Прошу прощения, джентльмены, – отозвался Каупервуд, ничуть не расстроенный этой новостью. – Лучше я разорюсь, чем объявлю себя банкротом хотя бы на час, поскольку мне известно, что это значит. Вы обнаружите, что мои активы значительно превосходят мои обязательства, если оценить акции по нормальной рыночной стоимости, но все это ни к чему, если я закроюсь. Публика не поверит мне. Я должен продолжать работу.
– Извини, старина Фрэнк, – сказал Лейф, дружески сжав его локоть. – Если бы дело касалось лично меня, ты имел бы сколько угодно времени. Но тут толпа старых идиотов, которые не хотят слышать голос разума. Они охвачены паникой. Думаю, их тоже крепко приложило, так что ты едва ли можешь винить их. С тобой все будет в порядке, хотя мне хотелось бы, чтобы ты не закрывал лавочку. Так или иначе мы ничего не можем поделать с ними. Черт побери, старик, я и правда не верю, что ты можешь обанкротиться. Через десять дней эти акции поднимутся до нормального уровня.
Судья Китчен тоже выразил соболезнования, но что толку от этого? Его принуждали к банкротству. Опытный бухгалтер должен был прийти и проверить его расчетные книги. Батлер мог распространить слухи о его связи с городским казначейством. Стинер мог подать жалобу на его последнюю сделку с сертификатами городского займа. Полдюжины друзей Каупервуда, готовых помочь ему, оставались с ним до четырех утра, и все-таки ему пришлось объявить о приостановке операций. Когда он делал это, то понимал, что потерпел тяжелый удар, если не полное поражение в своей гонке за славой и богатством.
Оставшись наконец наедине с самим собой в спальне, он посмотрел на себя в зеркало. Он подумал, что выглядит бледным и усталым, но оставался сильным и собранным. «Ха! – сказал он себе. – Я еще молод и рано или поздно выберусь из этой заварушки. Обязательно выберусь. Я найду какой-нибудь выход».
Он устало вздохнул и начал раздеваться. Он опустился на кровать и, как ни странно, учитывая неприятности, обступившие его со всех сторон, через короткое время уснул. Он мог это сделать – заснуть и мирно похрапывать, – в то время как его отец безутешно расхаживал в своей комнате. Для пожилого человека впереди был сплошной мрак и будущее выглядело безнадежным. У его сына еще оставалась надежда.
Лилиан Каупервуд ворочалась и металась в своей постели перед лицом этой новой беды. Из новостей, полученных от его отца, самого Фрэнка, Анны и свекрови, ей вдруг стало ясно, что Фрэнк близок к банкротству или уже обанкротился, – было почти невозможно сказать, что случилось. Фрэнк был слишком занят для объяснений. Кажется, все началось из-за пожара в Чикаго. Никто еще не упоминал о городском казначействе. Фрэнк попал в ловушку и боролся за жизнь.
В этот критический момент она на время забыла о письме, сообщавшем о его измене; вернее, перестала думать о нем. Она была потрясена, испугана, ошеломлена и сбита с толку. Ее маленький, благолепный, прекрасный мир слетел со своей оси. Великолепный, богато украшенный корабль их фортуны болтался по волнам без руля и ветрил. Она чувствовала, что должна оставаться в постели и постараться заснуть, но ее глаза были широко распахнуты, а мысли причиняли боль. Еще несколько часов назад Фрэнк настаивал, что ей не о чем беспокоиться и что она не должна ничего предпринимать; она ушла от него, задаваясь доселе неведомым вопросом, в чем состоит ее долг и как лучше исполнить его. Традиция подсказывала ей держаться рядом с мужем, и она решила это сделать. Так диктовали религия и общественные нравы. У них были дети, которые не должны пострадать. Фрэнка нужно вернуть, если это еще возможно. Он это переживет. Но какой тяжкий удар!
Глава 31
Известие о временном закрытии банкирского дома «Фрэнк А. Каупервуд и К?» вызвало большой переполох на фондовой бирже и во всей Филадельфии. Оно было совершенно неожиданным, а его масштаб оказался огромным. Общая задолженность составляла миллион двести пятьдесят тысяч долларов, а активы из-за существенного падения стоимости акций едва достигали семисот пятидесяти тысяч долларов. Была проведена тщательная проверка бухгалтерского баланса, прежде чем цифры были преданы огласке; когда это случилось, акции упали еще на три пункта, а в газетах на следующий день появились скандальные заголовки. Каупервуд не собирался объявлять себя полным банкротом; он хотел временно прекратить платежи, а затем, по возможности, надавить на кредиторов и возобновить операции. Но возникли две преграды: дело о пятистах тысячах долларов, взятых из городской казны под смехотворно низкий процент, ясно показывало, как на самом деле велись дела, и вопрос о чеке на шестьдесят тысяч долларов. Коммерческое чутье подсказывало ему способы ассигнования его активов в пользу наиболее крупных кредиторов, которые впоследствии будут поддерживать возобновление его деятельности; это нужно было сделать как можно скорее. Харпер Стэджер уже составил список предпочтительных кредиторов, в который включил «Джей Кук и К?», «Эдвард Кларк и К?», «Дрексель и К?» и других. Каупервуд понимал, что хотя недовольные мелкие акционеры подадут судебные иски и потребуют пересмотра преимущественных прав или банкротства, явное предпочтение наиболее влиятельных сторонников будет иметь важное значение. Им это понравится, что может оказаться полезным для него, когда все успокоится. Кроме того, многочисленные судебные иски были превосходным способом потянуть время и дождаться, пока рынок не восстановится вместе со здравым смыслом. А судиться нужно будет со многими. Даже Харпер Стэджер саркастически улыбался, когда они оценивали свои перспективы, хотя во времена финансового хаоса редко кто улыбался.
– Фрэнк, ты просто чудо, – сказал он. – Скоро здесь возникнет такая паутина исков, которую никто не сможет порвать. Все будут судиться друг с другом.
Каупервуд улыбнулся в ответ.
– Мне нужно лишь немного времени, только и всего, – сказал он. Впервые он был немного удручен; то дело, которому он посвятил годы усердного труда и умственных затрат, завершилось.
Больше всего его беспокоили не пятьсот тысяч долларов, которые он задолжал городской казне, хотя он понимал, это взбудоражит общественную и политическую жизнь города, когда новость просочится наружу; это была законная или, по крайней мере, почти законная сделка. Нет, его беспокоили сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов, которые он не смог вернуть в амортизационный фонд и теперь уже не смог бы это сделать, даже если бы деньги упали к нему с неба. Их отсутствие было самой серьезной проблемой, и он много думал о сложившейся ситуации. Он решил, что может обратиться к Молинауэру или Симпсону либо сразу к обоим – он не был знаком с ними, но после разрыва с Батлером только они могли помочь ему, – и заверить их, что сейчас он не может вернуть в казну пятьсот тысяч долларов, но если против него не будет возбуждено дело, он дает слово спустя время вернуть все до последнего доллара. Если они откажутся и ему будет предъявлено обвинение, пусть они дожидаются, пока он не «будет готов», – чего, по всей вероятности, не произойдет никогда. На самом деле было не ясно, каким образом даже они могли бы предотвратить его судебное преследование. В его бухгалтерских книгах деньги числились как долг перед казначейством, а в книгах казначейства – как ссуда на его имя. Кроме того, существовала местная общественная организация под названием Гражданская ассоциация муниципальных реформ, которая время от времени проводила расследования в связи с публичными скандалами. Его растрата, несомненно, дойдет до сведения этого уважаемого учреждения, и будет проведено открытое расследование. Отдельные люди уже знали об этом, к примеру, его кредиторы, которые сейчас изучали его балансовые отчеты.
Вопрос встречи с Молинауэром, Симпсоном или обоими так или иначе имел важное значение, но перед этом Каупервуд решил посоветоваться с Харпером Стэджером. Поэтому через несколько дней после закрытия своего банка он послал за Стэджером и все ему рассказал о последней сделке, хотя и не дал понять, что он не собирался возвращать сертификаты в амортизационный фонд до того, как поправит свои дела.
Харпер Стэджер был высоким, подтянутым и довольно элегантным мужчиной с мягким голосом и безупречными манерами, чья походка напоминала крадущегося кота, почуявшего близость собаки. Он имел худощавое удлиненное лицо того типа, который привлекает женщин. У него были голубые глаза и каштановые волосы с рыжеватым оттенком. Его ровный, пристальный взгляд иногда был устремлен на собеседника поверх худой, изящной руки, которой он задумчиво касался своего подбородка. Он был крайне жесток, но не агрессивен и равнодушен, поскольку ни во что не верил. Он не был беден и даже родился в зажиточной семье. Он обладал врожденной чуткостью и созидательным складом ума, но почти единственным стимулом к работе для него было достижение известности и богатства. Каупервуд представлял для него прекрасную возможность добиться того и другого. Кроме того, он был замечательным собеседником. Из всех своих клиентов Стэджер больше всего восхищался Каупервудом.
– Пускай они подадут иск против тебя, – сказал он после того, как его блестящий ум мгновенно оценил юридические аспекты ситуации. – Я не вижу здесь чего-то более серьезного, чем формальное обвинение. Если дело дойдет до суда – хотя не думаю, что это случится, – обвинение может быть основано на присвоении чужой собственности или растрате. В данном случае средства были переданы тебе на ответственное хранение. Единственным выходом будет клятвенное заверение, что ты получил этот чек с ведома Стинера и при его согласии. Тогда это будет выглядеть лишь как формальное обвинение в безответственности с твоей стороны, и я не верю, что любой суд может приговорить тебя с учетом свидетельств, как были выстроены ваши отношения. Тем не менее так может случиться; никогда нельзя угадать, какое решение вынесет суд присяжных. Как мне представляется, все будет зависеть от того, кому будут более склонны поверить присяжные – тебе или Стинеру, и от того, насколько городские воротилы захотят сделать Стинера козлом отпущения. Все дело в предстоящих выборах. Если бы кризис случился в любое другое время…
Каупервуд жестом прервал его речь. Он уже все знал об этом.
– Сомневаюсь, что все будет зависеть от того, какое решение примут политические круги, – сказал он. – Ситуация слишком сложная, и ее будет трудно замять. Что будет, то и будет.
Они сидели в кабинете Каупервуда на втором этаже его особняка.
– Я хочу знать, Харпер, какие юридические последствия мне грозят, если, как ты выразился, против меня выдвинут обвинение в незаконном присвоении имущества и признают виновным, – продолжал он. – Каков максимальный срок заключения в данном случае?
Стэджер немного подумал, потирая подбородок длинными пальцами.
– Давай посмотрим, – сказал он. – Это серьезный вопрос, не так ли? По закону полагается от одного до пяти лет, но в случае растраты средний срок колеблется от одного до трех лет. Разумеется, в данном случае…
– Мне все известно об этом, – раздраженно перебил Каупервуд. – Мой случай не слишком отличается от остальных, и ты это знаешь. Растрата есть растрата, если так захотят местные политиканы.
Он глубоко задумался, а Стэджер встал и стал небрежно расхаживать по комнате. Он тоже размышлял.
– И я могу отправиться в тюрьму в любое время судебного разбирательства еще до того, как будет вынесено окончательное решение в высших инстанциях? – угрюмо спросил Каупервуд через некоторое время.
– Да, во всех судебных процедурах такого рода есть одно обстоятельство, – осторожно ответил Стэджер, который теперь теребил мочку уха и старался выражаться как можно деликатнее. – Ты можешь избегать тюремного приговора на всех ранних этапах слушаний такого дела, но когда тебя признают виновным и выносят промежуточный приговор, чертовски трудно что-либо поделать. Фактически тогда ты обязан отправиться в тюрьму на пять-шесть дней, пока не будет подано ходатайство о пересмотре дела и получено свидетельство обоснованного сомнения в приговоре[30 - Примерный аналог кассационной жалобы. Тогда в США она разделялась на две процедуры: ходатайство о пересмотре дела в суде текущей или высшей инстанции и «свидетельство обоснованного сомнения» со ссылками на соответствующие статьи законодательства.]. Обычно это требует примерно столько же времени.
Молодой банкир выпрямился, глядя в окно.
– Все довольно сложно, не так ли? – заметил Стэджер.
– Да, я бы так сказал, – отозвался Фрэнк и тихо добавил: – Тюрьма! Пять дней в тюрьме!
Что ни говори, это будет жуткая оплеуха. Пять дней до подачи ходатайства и получения свидетельства, если оно вообще будет получено! Сесть за решетку? Он должен избежать этого! Его коммерческая репутация не переживет такого позора.
Глава 32
Необходимость в последнем совещании между Батлером, Молинауэром и Симпсоном стремительно нарастала, так как ситуация ухудшалась с каждым часом. Третья улица полнилась слухами о том, что, помимо невозможности возместить крупные убытки, понесенные в результате еще не улегшейся паники на фондовом рынке после пожара в Чикаго, Каупервуд и Стинер либо Стинер при соучастии Каупервуда пробили в городской казне дыру размером в пятьсот тысяч долларов. Вопрос заключался в том, как замять это дело, так как до выборов оставалось еще несколько недель. Банкиры и брокеры обменивались друг с другом странными слухами о чеке, полученном в городском казначействе без согласия Стинера уже после того, как Каупервуд осознал свое грядущее банкротство. Существовала опасность, что это дойдет до сведения очень неудобной политической организации, известной как Гражданская ассоциация муниципальных реформ, президентом которой был известный сталелитейщик и человек кристальной честности и нравственности, некий Скелтон К. Уит. Этот Уит годами следовал по пятам городской администрации, где преобладали республиканцы, тщетно пытаясь пресечь творившееся там беззаконие. Он был серьезным и суровым человеком, одним из тех лицемерных праведников, которые смотрят на жизнь через призму гражданского долга и, нечувствительные к любым плотским страстям или увлечениям, доходят до крайностей в своей поддержке десяти заповедей в том виде, как они это понимают.
Ассоциация была сформирована для борьбы со злоупотреблениями в налоговом департаменте и с тех пор перед каждыми очередными выборами старалась подтвердить свою полезность в газетных публикациях или несмелым «исправлением» какого-нибудь мелкого чиновника, которое обычно завершалось вдали от всеобщих глаз за кулисами высших политических кругов в лице Батлера, Симпсона и Молинауэра. Сейчас ей не хватало необходимого топлива и боеприпасов, но обвинение в преступной связи Каупервуда с городским казначейством, по мнению некоторых политиков и банкиров, могло снабдить ее долгожданной дубиной для праведного гнева.
Однако решающая встреча между влиятельными политическими силами произошла через пять дней после объявления о его неплатежеспособности в доме сенатора Симпсона, находившемся на Риттенхаус-сквер – центральном районе потомственных богачей Филадельфии. Симпсон, из квакерской семьи, обладал отменным художественным вкусом и огромным влиянием, которым он пользовался для построения своей политической карьеры. Он мог быть необыкновенно щедрым, если за деньги можно было получить могущественных союзников и полезных приверженцев, и раздавал должности мировых судей, председателей фондов, ревизоров, делал политические и административные назначения тем, кто преданно и беспрекословно ему подчинялся. Он был более могущественным, чем Батлер и Молинауэр, ибо представлял интересы штата и государства в целом. Когда политические власти, которые пытались склонить результат общенациональных выборов в ту или иную сторону, интересовались мнением штата Пенсильвания, и Республиканской партии в частности, они обращались к сенатору Симпсону. Он досконально знал обо всем, что творится в его вотчине. Симпсон уже давно перестал быть провинциальным политиком и в масштабах политики государственной представлял собой влиятельную фигуру в сенате США в Вашингтоне, где его голос во всех официальных и финансовых вопросах обладал немалым весом.
Его четырехэтажный дом в венецианском стиле имел разнообразные следы этого увлечения: и окна с цветочным орнаментом, и дверь со стрельчатой аркой, и медальоны цветного мрамора, вделанные в стены, – сенатор был большим почитателем венецианских красот. Он часто бывал в Венеции, Риме и Афинах, привозил оттуда произведения искусства и старинные статуэтки. К примеру, ему нравились суровые скульптурные бюсты римских императоров и фрагменты статуй богов и богинь – красноречивые свидетельства высоких устремлений античной культуры. В мезонине дома находилось одно из его главных сокровищ – украшенная цветочной резьбой стела с остроконечным верхом, увенчанная козлиной головой Пана, и лепные осколки прекрасной нагой нимфы – только ножки, обломанные у лодыжек. Основание стелы у ног нимфы было покрыто резными бычьими черепами, переплетенными ветвями роз. В приемной стояли копии статуй Нерона, Калигулы и других римских императоров, а вдоль лестниц шли барельефы нимф и жрецов, подгонявших жертвенных животных к алтарям. Где-то в доме стояли часы, отбивавшие каждую четверть часа непривычным благозвучным жалостливым звоном. Стены комнат были затянуты фламандскими гобеленами, а в приемной, гостиной и библиотеке стояла резная мебель, изготовленная по образцам итальянского ренессанса. Сенатор не слишком хорошо разбирался в живописи и не вполне доверял своему вкусу, но полотна в его доме были настоящие. Он уделял большое внимание своим горкам со всевозможными безделушками, включая бронзовые статуэтки, венецианское стекло и китайский нефрит. Он не был коллекционером в общепринятом смысле, он просто был любителем редкостных вещиц. Экзотические тигровые и леопардовые шкуры, покрывало из шерсти мускусного быка на диване, выдубленная бронзовая козлиная и овечья кожа для обивки столов – все создавало впечатление элегантности и сдержанной роскоши. Столовая была устроена в стиле жакоб. Представлениям о прекрасном отвечал и винный погреб, заботливо пополняемый местными виноделами. Сенатор был человеком, привыкшим жить на широкую ногу, и когда в его резиденцию приглашали на обеды, приемы или балы, там собирались сливки городского общества.
Совещание проходило в библиотеке сенатора, он принял коллег с радушием человека, которому было нечего терять, но который мог многое получить. Были поданы бутылки виски, вина и сигары, и после того как Симпсон и Молинауэр обменялись общими фразами в ожидании прибытия Батлера, они закурили, думая каждый о своем.
Так получилось, что накануне днем Батлер узнал от окружного прокурора Дэвида Петти о чеке на шестьдесят тысяч долларов. Молинауэр узнал об этом непосредственно от Стинера. Именно Молинауэр, а не Батлер, усмотрел в этом возможность извлечь выгоду из положения Каупервуда, спасти местное отделение Республиканской партии от позора и избавить Каупервуда от его трамвайных акций втайне от Симпсона и Батлера. Нужно было лишь запугать его личной угрозой судебного преследования.
Вскоре явился Батлер с извинениями за задержку. Он, скрывая свое горе за внешним благодушием, произнес:
– Наступают веселые времена, и каждый банк хочет знать, как получить обратно свои долги.
Он взял сигару и чиркнул спичкой.
– Да, выглядит угрожающе, – с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. – Садитесь, садитесь. Недавно я побеседовал с Эйвери Стоуном из «Джей Кук и К?», и он сказал, что слухи о связи Стинера с банкротством этого Каупервуда ходят по всей Третьей улице и что газеты скоро раструбят об этом, если не принять меры. Я также уверен, что это известие скоро дойдет до мистера Уита из Ассоциации муниципальных реформ. Джентльмены, мы должны решить, что делать. В одном я уверен: нам следует без шума вычеркнуть Стинера из списка партийных кандидатов. Мне представляется, что это может стать серьезной проблемой, и мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить дальнейшие последствия.