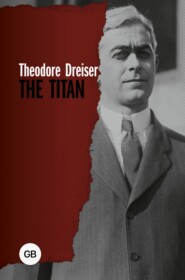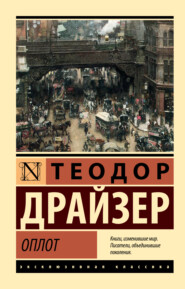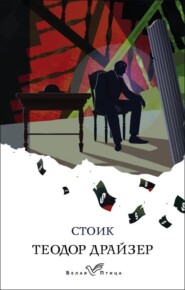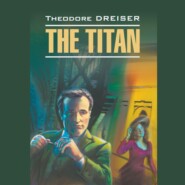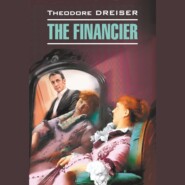По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Финансист
Автор
Жанр
Год написания книги
1912
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Финансист
Теодор Драйзер
Трилогия желания (новый перевод) #1
Американский романист Теодор Драйзер давно занял почетное место среди классиков мировой литературы. Тема большого бизнеса, людей, как преуспевших в нем, так и потерпевших фиаско, привлекала внимание Т. Драйзера еще в те годы, когда он занимался журналистикой. Герой романа «Финансист» – Фрэнк Каупервуд – не только удачливый бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и над женщинами. Богатство для него не цель, а средство, позволяющее Каупервуду жить, руководствуясь принципом: «Мои желания прежде всего».
Теодор Драйзер
Финансист
© Theodore Dreiser, 1940
© Вступительная статья. Л. Сумм, 2009
© Перевод. М. Волосов. Наследники, 2009
© ООО «Издательство «Эксмо», 2009
Любовь Сумм
По ту сторону звезд
Чикагская обсерватория и сейчас носит имя человека, финансировавшего ее строительство, – Чарльза Т. Йеркса, он же Фрэнк Каупервуд, герой трилогии «Желание». В книге решение ценой в треть миллиона долларов принимается молниеносно, диалог с ректором укладывается буквально в две страницы. Вначале речь идет о довольно скромном взносе (8—10 тысяч, чикагские бизнесмены скидывались на оборудование для новорожденного университета), после нескольких реплик, за считаные минуты взвесив и свои возможности, и выгоды от такого решения, Фрэнк берет на себя не только покупку телескопа – 40 тысяч долларов, – но и строительство обсерватории, а это уже 300 с лишним тысяч.
Что побудило опытного, циничного дельца к подобным расходам? Расчет, говорит Драйзер. О щедрости магната протрубили все газеты, даже за океаном; ему обеспечены огромные кредиты, понадобившиеся на достраивание империи, конкуренты раздавлены, городские власти не смогут отказать благотворителю в концессии, и наконец-то линии чикагской надземки сойдутся в руках Каупервуда.
Осуществление мечты. Дороги, в особенности рельсовые – конка, позднее трамвай в городе, Северо-Пенсильванская или другая какая-нибудь железная дорога, соединяющая город с деловыми и промышленными центрами, путь, прокладываемый с Восточного, давно освоенного побережья, через брызжущий энергией, кипящий иммигрантами Средний Запад на «территории», еще не ставшие штатами, – Нью-Мехико, Техас, – все эти американские дороги пробуждали в селф-мейд миллионерах трепет, сродни религиозному, и простодушную, ребяческую жадность, как блестящие, да к тому же работающие игрушки.
«Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало – телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами»[1 - «Финансист». – Пер. М. Волосова.]. Так начинает Драйзер первую часть трилогии «Финансист», заражая читателя той страстью освоить, познать – даже физиологически – Америку, с какой пришло в мир поколение Йеркса.
В 30-е годы XIX века появилась в Североамериканских Соединенных Штатах новая поросль, со своей особенной физиономией, на многие годы, а может, и навсегда определившая в глазах мира образ Америки. Государство еще только складывалось, остро чувствовалась недостача многих элементов общественной, упорядоченной жизни. Стихийные массы иммигрантов, разноплеменных и разноязыких, прихлынувшие к Восточному побережью Штатов, с трудом перемалываемые, перевариваемые в общем котле; еще один исход – неукротимое, стихийное движение к Западному побережью. Вестерн, где «смит-и-вессон» – закон, отчасти романтически преувеличивает, и все же значительная часть населения жила тогда в состоянии догосударственном, и догосударственность проявлялась не только в захвате чужих земель (отнимавшихся и у индейцев, и у Мексики, и у тех, кто имел несчастье поселиться в Америке раньше), но и в эдаком раннефеодальном укладе, в отсутствии хозяйственных связей, иерархии, общеобязательных норм. Западные и южные земли, заселявшиеся пришлыми и более-менее коренными американцами, проходили через период карантина, когда именовались не штатом, то бишь государством, а территорией. Конечно, в городах Восточного побережья, в Нью-Йорке, тем паче в Филадельфии и чинном Бостоне, сохранялась в том или ином виде европейская привычка порядочности и закона; выработалось нечто похожее (и вместе с тем непохожее) на феодальный строй в рабовладельческих штатах, но вокруг и внутри, в растущих без плана уродливых городах, бродила и бушевала та жизнь, о которой в Европе забыли с IX-Х-XI столетия. Тогда, спустя века после падения Рима и окончательного разрушения империи, пробудилась энергия нового строительства, выплеснулась жестокой предприимчивостью, разбойничьими набегами. Европа строилась викингами-норманнами, угнездившимися на Сицилии, во французской Нормандии, в Англии, в Новгороде и Киеве. Начинали с набегов на длинных кораблях, резни и пожаров, насилия; во втором-третьем поколении крестились, закладывали города, той же сильной рукой гарантировали защиту и правосудие.
Быстро и беспринципно богатевших одногодков Каупервуда сравнивали порой с викингами, но устойчивее другое сравнение – robber barons, бароны-разбойники. Чуть более поздняя эпоха, никак не желающая принять устойчивую форму Германская империя, «рыцари», засевшие в замках над Рейном, каждый сам себе господин, грабящие путников и воюющие с соседями. Какое сравнение точнее? Размах у Йеркса, Моргана, Рокфеллера «викинговский», одним замком и его окрестностями никогда бы не ограничились, и по сути, работа их скорее «норманнская» – строительство, пролагание путей (еще и отсюда такая любовь к железным дорогам и телеграфу). «Бароны-разбойники» – определение в первую очередь оценочное, осуждающее, хотя в нем есть своя точность: не сплоченная дружина викингов, а эгоистичные одиночки, не встреча двух культур, языческих мореплавателей и оседлого христианства, но бродило, из самого себя порождающее и языческую жажду наживы, и легкость принятия новых форм, и «староевропейскую» тягу к юридически упорядоченному общежитию, гражданской личности.
В поколении 30-х годов (в том же 1837-м, что и Йеркс – Каупервуд, родился Джон Пирпонт Морган, самый знаменитый из викингов-разбойников) каждый сам себе и языческий вождь, и крестивший его епископ. Необходимость империи, иерархии эти бароны ощущали со всей остротой, пусть и удобнее быть разбойником в вакууме власти.
Специфику тех лет уловить очень трудно – как передать почти отсутствие, нащупывание, налаживание? Каких греческих или схоластических философов привлечь, чтобы описать переходную эпоху, когда все уже присутствует в потенции (не было бы представления о законах, этике, о системе денежного обращения, транспорте и культуре, не было бы потребности в них, так откуда бы им взяться?), но ничего еще нет в реальности. Показать становление едва ли возможно, однако стоит попытаться из нашего «после» нарисовать состояние «до». Именно это делает Драйзер в прологе «Финансиста», перечисляя вещи, которых «тогда еще не существовало». И обратим внимание, что все это не просто явления технического прогресса, а средства связи. Дороги, телеграф, почта. Деньги.
Деньги, понятное дело, основной сюжет трилогии «Желание». По способностям и призванию, по духу времени Фрэнк Каупервуд – делатель денег. Зачем эти деньги понадобились, какие именно желания могут они исполнить – об этом речь пойдет во второй и в третьей части саги. Тогда обнаружится власть денег, даст себя знать разбойничий барон или – подымай выше – купец-нобиль, в духе Медичи, строящий замки и университеты, скупающий картины и женщин. В первом томе потребительская функция денег достаточно скромна – выстроил человек к сорока годам особняк на пару с отцом, завел приличный выезд. Не более чем уровень «хорошего среднего класса». Все деньги Финансиста не в личной собственности, а в движении, в сложнейших комбинациях, авантюрах, именно в делании денег. Деньги ради них самих, социальная игра, незримый, а потому таинственный и обожествляемый идолопоклонниками ток, реальный, как электрический ток в телеграфных проводах, и столь же необходимый для современного общества, для его функционирования в качестве единой системы.
«Вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1846 году Министерство финансов Соединенных Штатов организовало свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня.
Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона; в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты, в Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами; они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету – единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой валюты в те времена не существовало».
В этом тяжеловесном, но мощном, энергичном описании (стронулись с места каменные глыбы) каждое слово – попытка движения, усилие передать меняющуюся ситуацию, показать Америку такой, какой ее помнили родители Драйзера (его отец иммигрировал в Штаты из Германии в 1844 году), какой ее могли застать в своем детстве старики, в 1912 году читавшие «Финансиста». «Начинала переходить», «мало-помалу», «становился», «стал более быстрым», «начали входить», «уже – но еще», «совсем недавно – еще не была». Даже поклонники Драйзера (а их среди соотечественников было немало) признавали, что стиль писателя подчас неуклюж. «Тяжелая походка», говорил Шервуд Андерсон. Шаг пролагателя путей.
Все «бывшее» настолько отличалось от того, чем оно «стало», что реалистический роман звучит порой волшебной сказкой, эпосом или же учебником. В первых главах Драйзер плотно рисует исторический и экономический фон, и эти финансово-политические подробности могли бы стать невыносимо скучными, «как в учебнике» (разве что позабавит сопоставление «тогда у них» и «теперь у нас»), но в том-то и суть, что учебник преображается в эпос, эпос ценится как учебник, поскольку речь идет об эпохе становления. Взять хотя бы Гомера: каждое сражение, «экшн», тормозится подробным изложением генеалогии противников или же описанием их оружия, а то и рассказом о том, как шлем, украшенный клыками кабана, передавался из одного царского дома в другой, покуда не прикрыл голову Одиссея, собравшегося в ночную разведку. И не только оружие – столь же выпукло обрисованы орудия ремесленника, характеры и манеры тогдашних людей, привычная пища, общественный уклад. Пейзаж выполнен в «Илиаде» так детально, что по этим указаниям Шлиман решился отыскать место, где была Троя: на таком-то расстоянии от моря, возле горячего и холодного источника, а рядом высокий курган. «По Гомеру» ученые XIX – XX веков восстанавливали быт, государственный строй, мифологию сразу двух эпох – описанной Гомером и той, в которую он жил; «по Гомеру» древнегреческие мальчики веками изучали риторику, мореходное и военное дело, географию. Все они – древнегреческие мальчики в большей степени, ученые Нового времени в меньшей – догадывались, что Гомер и выдумывает, и ошибается, и путает. Но другого источника, другого учебника не было и быть не могло.
Примерно так же обстоит дело и с Драйзером. Он ошибается, путает, преувеличивает, но откуда еще нам узнать о том сумасшедшем времени? Из учебников, написанных еще позже, из истории, которая засушит подробности, остановит ход времени и подаст становящееся как нечто статичное? Хотя великие предшественники Драйзера, классики американской литературы, застали эпоху позолоченного тельца (Фенимор Купер и Вашингтон Ирвинг – зрелыми мужами, Эдгар По и Натаниэль Готорн – вступая в творческую жизнь), в их книгах она преломляется скорее настроением, аурой, недомолвками или даже уходом от разговора, чем собственно приметами времени. Если сложить эти «недомолвки» и «настроения» – сагу Фенимора Купера, уводящего читателя в девственные леса Нового Света, светские, старинные сюжеты Ирвинга – то катание на льду в голландском еще Нью-Йорке, то падение далекой Гранады в далеком XV веке, – если добавить ужасы Эдгара (для которого опять-таки не составляет труда перенестись в Париж, Испанию или Германию) и мрачного Готорна с его семейными преданиями, то получится весьма выразительная картина – вернее, отсутствие таковой. Там, где полагается быть современной этим авторам Америке двадцатых-тридцатых-сороковых годов, – пустота. Но «форму» этой пустоты мы угадать можем по способам умолчания и уклонения – Европа, вымышленные «другие страны» и «другие времена», сожаления о разрушившемся укладе, испорченность человеческой натуры, страх. Вакуум власти и организованной общественной жизни, стремительные перемены, растерянность. Кто мог знать, что из всего этого выйдет Северная Америка? Могли выйти и Парагвай с Гондурасом.
Единственный из великих, кто решился писать о современности, – Марк Твен. Единственный цепкий к мелочам и реалиям взгляд, единственный, кто смел смеяться. Три классических способа уловить время – трагедия, уводящая к вечному прочь от того, что творится сейчас (но движением прочь указующая на то, от чего уводит); комедия, норовящая на текучем и подвижном материале оставить столь же текучий и подвижный отпечаток; эпос – он пишется спустя эпоху, но такова уж Америка и таков уж XIX век – эпоха сменилась за треть столетия. Эпос искажает реальность по-своему, но пора уж привыкнуть к тому, что только искаженная реальность и существует. Когда все это еще «было» и трепетало, Марк Твен мог поймать больше живых и выразительных деталей, вот только никто не знал, к чему все это ведет, какие детали действительно важны, как рассыпанные подробности сложатся в мозаику. Драйзер – знал. А потому его трилогии присущи и занудство эпоса, и невольное сожаление о прошлом (осуждай не осуждай баронов-разбойников, но это уже прошлое, и кратковечность наша внушает печаль), и сильные характеры (кто устоит перед Фрэнком Каупервудом? Кто устоит перед Ахиллом и Одиссеем? Хотя, с точки зрения обычной человеческой нравственности, многое можно сказать против любого из них). И главное, в его повествовании рассыпаны детали, не только «учебниковые», но вроде бы случайные, так, мимолетные подробности жизни, однако они-то и скажут нам больше всего.
Легкий флер сказочности вполне уместен, пока речь идет о детстве героя. Именно здесь, на первых страницах книги, возникают и обстоятельные «гомеровские» отступления – мифы, поиски первопричины, «начала» событий, – и гомеровски точно (гомеровски неточно) воспроизведенный предметный мир. Не забыто и пианино, выписанное из Европы. Одна лишь деталь, и мы вдруг отчетливо понимаем, что такое Америка – самая культурная, восточная ее часть, Новая Англия! – в тридцатые-сороковые годы XIX века. Не было во всей этой двести лет как освоенной провинции ни одного мастера, способного изготовить и настроить пианино. Музыкальные инструменты везли из Европы, на тогдашних медлительных судах – океанских пароходов «еще не существовало». Везли инструменты, книги, учителей, моды. Поколение Йеркса, внуки и правнуки Революции, возвращалось в Европу.
Каупервуд-отец выписывал из Европы культурный товар – уже достаточный признак богатства. Сын же самолично отправляется в Старый Свет посмотреть, что там нужно ему. Это опять-таки соответствует исторической истине: богатые американцы с женами и дочерьми-наследницами зачастили в Европу с середины XIX столетия, с тех пор и стали типажами карикатур и объектами брачной охоты. Фрэнк Каупервуд – отнюдь не самый проворный в своем поколении, «выездным» он становится уже в зрелом возрасте (его одногодок Морган заканчивал университет в Европе; правда, связи наладил еще старший Морган, банкир). В светских семействах Новой Англии поездки в Европу сделались сезонными, богачи одевались в Лондоне и Париже, у Ворта. Драйзер подчеркивает, что при всех амбициях и грандиозном богатстве Фрэнка в высший свет его семейству попасть не удается. Богатства, нажитого Фрэнком, чуть-чуть не хватает, чтобы «простили все», репутация у всякого миллионера неважная – поскольку наследственных имений в Новом Свете не водилось, огромное состояние, как и сейчас, само за себя говорило: «нахапали!», но и тут Фрэнк чуточку переборщил; к древности рода опять-таки требования предъявлялись не слишком высокие – Каупервуды издавна укоренились в Америке, и должность банковского служащего, а затем и директора, каким был Каупервуд-старший, – вполне достойное положение (а дядя и вовсе плантатор), однако были уже в Филадельфии и Нью-Йорке действительно старинные семьи с разветвленным родством. По всем трем параметрам Каупервуды недотягивали, причем недотягивали самую малость, вот что обидно, и будь сам Фрэнк помельче душою, он бы извелся в попытках нагнать элиту. Порой, особенно в молодости, с ним такое случалось: он шел проторенной дорогой и старался подражать тем, кто впереди. Но после драматических испытаний, составивших первую часть трилогии, Каупервуд, вот уж действительно, пошел своим путем.
Он не подражает, он делает то же самое, что все остальные, Морганы и Рокфеллеры, – строит нью-йоркский дворец в стиле дожей, собирает коллекцию старых мастеров, подумывает о египетских древностях, но все это не потому, что так делают другие, а потому, что это ему органично. Это было органично для поколения «титанов» – верное, точное имя дал Драйзер второй части трилогии. Бароны-разбойники прокладывали железные дороги, налаживали банковскую систему, заново строили общество. Они созидали небывалое и уже потому были титанами, но есть в этих титанических усилиях своя ирония: выстраиваемая иерархия предполагала традицию, проложенные пути заворачивали в Европу. Каупервуду-старшему достаточно было привезти пианино, чтобы приобщиться к мировой культуре. Теперь перевозили памятники архитектуры, картинные галереи, сфинксов. Гонки в немыслимом темпе – за два десятка лет ухватить европейское тысячелетие, опрокинуться в легендарные дали Египта, не пропустить и последнюю парижскую моду. Простым приемом Драйзер показывает нам и скорость, и страх отстать: жена Фрэнка «недотягивает», а потому из ценного приобретения превращается для супруга в обузу. Где уж ей в тысячелетней культуре сориентироваться – чтобы помочь ей разобраться в модных одежках и удовольствиях, и то пришлось нанимать чичероне. Зато сам Фрэнк будто и не участвует в соревновании. Он строит дворцы и галереи не потому, что «все» так делают, а потому, что в нем бушует властное желание завладеть красотой. Он ни в коем случае не подражатель, он – первооткрыватель, пусть и открывает давно уже устоявшееся, и не один открывает, а со всем своим поколением магнатов – неважно, усилие все то же, индивидуальное, стихийное. Именно потому, что его открытия – личные, Фрэнку в какой-то момент удается переплюнуть всех, замахнувшись уже не на искусство или историю, но потянувшись к звездам. Телескоп и обсерватория! Строили больницы и стадионы, жертвовали на ученые штудии, но вот так, одним махом Луну с неба, еще никто не отваживался.
Настолько очевидна символика этого жеста, настолько ясно сказался в нем характер, что завершающие эпизод рассуждения автора о практической выгоде, о голом расчете, хуже того – о рекламном трюке, туфте вместо реального дела – разочаровывают. А те слова, которые сказаны в начале этой сцены, типичная для Драйзера (и для описываемой эпохи) примитивно-торжественная философия – мол, ученый верил в «торжество истины», для магната же и «знаменитые университеты суть явления преходящие и ничтожные в общей бесконечной смене вещей», – как-то уж чересчур обобщены, и мы перестаем чувствовать за ними личности собеседников. Гораздо существеннее разговор о шлифовке линз: ректор объясняет спонсору, как готовится стекло для телескопа, – специалист-оптик, лучший в своем ремесле, трет линзу большим и указательным пальцами, терпеливо, неустанно, четыре года или пять, пока в этом стекле не отразятся звезды. Вот – суть и смысл. Вот на чем сошлись магнат и ученый – во что бы ни верил (и в чем бы ни разочаровался) каждый из них, они верят в дело своих рук, не устрашатся по крупинкам, усердным усилием пальцев, годами прокладывать путь к звездам.
Как же автор этого не видит? Зачем повторяет, навязчиво и утомительно, прописные истины о хищническом капитале, эгоистическом индивидуализме, голом азарте наживы и потворстве собственным желаниям – «мои желания закон», таков, дескать, был девиз Фрэнка, давший название трилогии. Ведь Каупервуд глубже, богаче, неожиданнее, чем насильственно выводится автором.
Вот замечательно! Выходит, мы лучше автора знаем его персонажей? Можем превознестись над Драйзером, над его реализмом и «натуризмом», стремлением постичь социальные законы, типизировать и обобщить, а уж его симпатии к Советскому Союзу, принесшие ему миллионные тиражи на русском языке (собрания сочинений выходили с 1928 года, а в 1945-м, незадолго до конца жизни, Драйзер успел вступить в коммунистическую партию), – чем не основание для превосходства, для нашего права посмотреть на него с высоты опыта не нами прожитых годов? А если взглянуть иначе? Велик и славен автор, не поработивший своих героев, и мало кому это удавалось. Драйзер пишет людей такими, какими их видит, и говорит о них то, что думает, однако они остаются настолько живыми и самостоятельными, что читатель может увидеть их по-другому, по-другому понять, сделать совсем иные выводы.
Отчасти это удается Драйзеру именно благодаря предельному реализму – благодаря его честности, отказу от подтасовок даже во имя идеи. Он имел определенные – если угодно, предвзятые – представления об источниках громадных частных состояний, о нравственных свойствах и социальном значении людей, добивавшихся такого богатства, о закономерностях развития общества. Он ставил себе определенную задачу: изучить предысторию, корни тех явлений, которые наблюдались в окружавшей его действительности. Возможно, все ответы были известны ему заранее, однако это не помешало Драйзеру задавать вопросы. Наверное, сыграл роль и выбор героя: Драйзер не выдумал его, а взял из жизни, вплотную следовал за обстоятельствами биографии Чарльза Йеркса, прототипа Фрэнка. В трилогии обильно использован документальный материал, газетные статьи, муниципалитетные, судебные, биржевые известия. Автор мало выдумывает и еще реже позволяет себе что-то пропустить. Укладывается известный поступок Йеркса в схему, не укладывается – рассказать о нем Драйзер считает обязательным. Таким образом не замысел, не идеология, не художественный эффект, но сама жизнь определяет победы и поражения Фрэнка, неожиданность или предсказуемость его поступков и час его смерти. Никакая типология тут не властна. Вот почему на смену второй книге – «Титану», где бушевала индивидуальность и ничто не полагало предела дерзаниям, придет заключительная, «Стоик», в которой титану придется смириться с неисполнимостью замыслов, с нехваткой земного времени, с подкараулившей за углом смертью от болезни почек в 68 лет. Все, как было.
Чарльз Йеркс родился в 1837 году, умер в 1905-м. Годом раньше Драйзер издал первый свой роман, оскорбившую блюстителей морали «Сестру Кэрри». Успеха не имел, а критика была столь сурова, что несколько лет Драйзер вовсе не мог работать, пережил депрессию, бедность, развелся с первой женой. К 1910 году несколько оправился и написал вторую книгу, в общем-то, в том же духе – опять внебрачные дети, неузаконенная связь, – но мягче и благочестивее. «Дженни Герхардт» особых протестов не вызвала, но и популярности автору не принесла. И только последовавший спустя год с небольшим «Финансист» сделал Драйзера «современным классиком». Драйзер обрел свое призвание – писать не просто романы о людях, о любви, но романы-исследования, вгрызаться в недавнюю историю, откровенно говорить о таинственной силе денег. С этим романом к нему пришел если не успех, то по крайней мере устойчивая писательская репутация. Не только герой обязан вторым рождением автору, но и автор – герою.
Эти двое шли навстречу друг другу несколько десятилетий, слишком уж несходным был их «бэкграунд». Теодор Герман Альберт Драйзер – двенадцатый, предпоследний ребенок в большой и неудачливой семье. Его отец, Иоганн, был иммигрантом первого поколения, немецким католиком; мать, Сара Шёнёб, принадлежала к меннонитам, одной из старинных и замкнутых религиозных групп. Подобно квакерам, меннониты проповедовали любовь и непротивление, были скрупулезно честны, жестко требовательны к своим собратьям, с чужими общались мало. Брак с католиком отрезал Сару Шёнёб от родных. Две традиции – католическая европейская и местная (меннониты, спасаясь от гонений, переселились в Америку в XVIII веке) – соединились, оторвавшись от своих истоков.
Многочисленный выводок подрастал, непричастный к американским корням матери, не зная своих бабушек и дедушек по обеим линиям, формально следуя «импортированной» религии отца. Американцы во всем – в своей одаренности, беспокойстве и жажде чего-то нового, необыкновенного, в праве на любовь, удачу, богатство. Это уже не продолжение естественного хода событий, не очередное поколение, хранящее уклад предков, тот уклад, которому оно обязано своим появлением на свет, но великая случайность, Великое-Могло-Не-Быть. Их родители не были предназначены друг для друга; незапланированная, «неправильная» встреча дала этим детям жизнь. Свободный выбор, не признающая условностей любовь, особый путь, пролагаемый каждым человеком в жизни, – вот что станет сюжетом романов Драйзера, его открытием Америки.
Мы увидим это в его романах: тип складывается из уникальных, непохожих друг на друга, «неправильных» судеб. Дочь фермеров – актриса варьете, свободно меняющая любовников; девочка из набожной лютеранской семьи – содержанка богатого наследника; отпрыск миссионеров – аферист, а в итоге – убийца; сын провинциального торговца швейными машинками – покоряющий столицу «гений». И все эти уникально-типические сюжеты автобиографичны. Одна за другой при сомнительных обстоятельствах покидали дом сестры, старшие братья выбирали ненадежные и полные соблазнов профессии музыкантов и художников. Немыслимые в поколении родителей грехи для молодых стали нормой, городским, «американским» образом жизни. Гневно отреагировав в первый, во второй раз, кого-то из отпрысков изгнав, чуть ли не прокляв, старшие Драйзеры в итоге смирились с новой реальностью, как со своим поражением.
Такими, уже отшумевшими, безропотными и не понимающими ничего – даже языка своих детей, – выведены старики-немцы в «Дженни Герхардт» или миссионеры, вырастившие будущего убийцу в «Американской трагедии». Со временем, конечно, Драйзер вернется к истокам и попытается понять «отцов». В начале писательского пути ему – что тоже естественно – интереснее путь и психология старших братьев и сестер.
Судьба знала, что делала, помещая будущего историка в семью, соединившую и смикшировавшую два наиболее выраженных типа – коренных американцев и иммигрантов первого поколения, европейских католиков и крепких местных протестантов. Столь же мастерски определила ему судьба и место в этой семье. Тридцатилетний Иоганн Драйзер и семнадцатилетняя Сара Шёнёб поженились в 1851 году. Будь Теодор Герман их первенцем, он был бы всего на 15 лет младше Фрэнка, стал бы сверстником младшего в клане Каупервудов. Вместо этого он оказался замыкающим в семье Драйзер и родился в 1871 году, поколением позже старшего из своих братьев. Семейная история, встреча отца и матери, их первоначальные удачи и окончательный крах – все было для него далеким прошлым, эпосом.
Поработав недолго на лесопилках Новой Англии, выходец из Германии Иоганн Драйзер отправился на Средний Запад, где в основном и оседали немецкие иммигранты, в Огайо встретил свою любовь, с ней вместе переселился в Индиану. Здесь они сменили несколько городов – Форт-Уэйн, Салливен, Терра-Хот. Теодор появился на свет в Терра-Хоте.
«Немецкий портняжка» поначалу торговал шерстью, потом сделался управляющим на шерстопрядильном заводе и получал достаточное жалованье, чтобы со временем войти в партнерство или же начать собственное дело. Старомодная бескомпромиссная честность все еще ценилась в пятидесятые – начале шестидесятых, когда начали сколачивать миллионы «дальновидность и личное обаяние», как определяются два коренных качества «финансиста». Иоганн Драйзер не обладал напором и «личным обаянием» в этом смысле – то есть умением «разводить людей на бабки», – и дальновидностью тоже не обладал. Гражданская война подогрела спрос на всякое сырье, в том числе шерсть и ткани, рынок процветал, как это обычно и случается во время войны. Драйзер-старший решился завести сукновальню. Война закончилась, экономические интересы сместились, и пожар, в 1869 году уничтоживший маленькую фабричку, был не роковой случайностью, а скорее поэтически оправданным финалом. «Подняться» Драйзерам больше не удалось, тем паче что отец получил тяжелую травму и остался инвалидом. Как и старику Герхардту, надежность и честность обеспечивали ему разве что работу сторожа, и в поисках работы приходилось переезжать – то в большой город (несколько месяцев семейство жило в столице штата, Чикаго), то, наоборот, в город поменьше, где можно было снять домик с садиком, прожить подешевле. Нередко семья разделялась, отец отправлялся на заработки, старшие откалывались, и Теодор оставался с матерью, ближайшей по возрасту сестрой и братиком-последышем, Эдом. Трое старших детей умерли в детстве, Теодор был уже не двенадцатым, а девятым.
Средний Запад, самая в ту пору «середка», перевалочный пункт Америки, и давно уже оседлые фермеры, и движущиеся куда-то на дальний Запад переселенцы, и тихая глубинка, и шумный город – все прошло перед глазами подрастающего мальчика. И среди этих пестрых картин глаза его, его душа выхватили одну, волшебную, неотразимо-привлекательную – Чикаго!
«Ребенку, человеку, одаренному воображением, и тому, кто никогда не путешествовал, момент приближения к большому городу всегда сулит чудеса. Особенно если это происходит вечером, в тот таинственный час борьбы света с мраком, когда весь живой мир переходит из одного состояния в другое… Улицы, фонари, ярко освещенные комнаты, где накрыты обеденные столы, – все это для меня!» – так видит Чикаго восемнадцатилетняя Кэролайн, заглавная героиня первой книги Драйзера, в 1889 году – примерно в тот же год, когда на завоевание местной столицы явился сам Теодор. Но десятью годами ранее такой же, если не более яркий образ предстал глазам сорокалетнего циничного магната:
«Чикаго – город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда! Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции Западных штатов? Город, подобный ревущему пламени, город – символ Америки, город-поэт в штанах из оленьей кожи, суровый, неотесанный Титан, Бернс среди городов! На берегу мерцающего озера лежит этот город-король в лохмотьях и заплатах, город-мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, – бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Еврипида. Город-бард – о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция! Италия, восхваляй свой Рим! Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века! Сюда, дивясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из Западных штатов и Восточных. Здесь голодные и алчущие труженики полей и фабрик, носясь с мечтой о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи.
Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хемпшира, Мэна стекался сюда странный, разношерстный люд; решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией, все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел фантазер-мечтатель, лишившийся своего родового поместья на Юге; исполненный надежд питомец Йельского, Гарвардского или Принстонского университета; вольнолюбивый рудокоп Калифорнии и Скалистых гор с мешочком серебра или золота в руках.
Уже стали появляться и растерянные иностранцы – венгры, поляки, шведы, немцы, русские. Смущенные незнакомой речью, опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности, они селились колониями, чтобы жить среди своих.
Здесь были проститутки, мошенники, шулеры, искатели приключений par excellence! Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века и пировали всласть в этом чудо-городе – центре Западных штатов»[2 - «Титан», пер. В. Курелла.].
Европейской литературе не под силу такой опыт. Чтобы воспеть Средний Запад, нужен Восток. «Тысяча и одна ночь», «Сон в нефритовом павильоне», «Повесть о Гэндзи» – Индия, Персия, Япония и Китай, перемешавшись, создадут Чикаго Драйзера.
Бесконечная погоня за богатством – именно бесконечная, а не направленная к цели, как на Западе. Многоликость. Постоянно меняющиеся любовницы, и столь сильно растворение человека в человеке, автора в писателе, что тут-то как раз Драйзер воспользовался не чужими, а собственными биографическими фактами и наделил Каупервуда собственными любовными историями, перемешав элементы, – будут у Каупервуда-стоика случайные связи, и новый брак, и прочная последняя любовь к молодой женщине, и короткий роман с внучатой племянницей. У Драйзера родственница, последняя любовь, второй брак совпали в одной женщине, «окончательной» жене, Элен Ричардсон, однако в восточной литературе все текуче, легко перетасовываются кусочки великой мозаики, многократно преломляется одна и та же любовь – и, может быть, одна любовь и мерцает за всем множеством любовей.
Чреда меняющихся явлений, метемпсихоз и майя – над этим задумывался порой Каупервуд, но ему было некогда. Его подругу Драйзер после смерти Фрэнка отправит в Индию, четыре года проведет Беренис у ног гуру, чтобы постичь не только текучесть и иллюзорность бытия, но и то, что, увы, ускользнуло от Фрэнка, – стоящую за иллюзорностью реальность, единство, присутствие божества в каждом. Вернувшись из этой поездки, Беренис застанет дело жизни Фрэнка разрушенным. Слишком глубоко зарывался он в свои финансовые аферы, и только на его «харизме» они и держались. Без него развалилась транспортная монополия в Чикаго, не состоялся план строительства метро в Лондоне – овладеть «подземкой», самым нутром Старого Света! С молотка пошел особняк, из которого Фрэнк замышлял сделать общедоступный музей, по отдельности распродано собрание картин. Что осталось? Пышная гробница, где рядом с ним упокоилась нелюбимая жена. Чикагская обсерватория – единственный памятник, хранящий его имя.
Теодор Драйзер
Трилогия желания (новый перевод) #1
Американский романист Теодор Драйзер давно занял почетное место среди классиков мировой литературы. Тема большого бизнеса, людей, как преуспевших в нем, так и потерпевших фиаско, привлекала внимание Т. Драйзера еще в те годы, когда он занимался журналистикой. Герой романа «Финансист» – Фрэнк Каупервуд – не только удачливый бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и над женщинами. Богатство для него не цель, а средство, позволяющее Каупервуду жить, руководствуясь принципом: «Мои желания прежде всего».
Теодор Драйзер
Финансист
© Theodore Dreiser, 1940
© Вступительная статья. Л. Сумм, 2009
© Перевод. М. Волосов. Наследники, 2009
© ООО «Издательство «Эксмо», 2009
Любовь Сумм
По ту сторону звезд
Чикагская обсерватория и сейчас носит имя человека, финансировавшего ее строительство, – Чарльза Т. Йеркса, он же Фрэнк Каупервуд, герой трилогии «Желание». В книге решение ценой в треть миллиона долларов принимается молниеносно, диалог с ректором укладывается буквально в две страницы. Вначале речь идет о довольно скромном взносе (8—10 тысяч, чикагские бизнесмены скидывались на оборудование для новорожденного университета), после нескольких реплик, за считаные минуты взвесив и свои возможности, и выгоды от такого решения, Фрэнк берет на себя не только покупку телескопа – 40 тысяч долларов, – но и строительство обсерватории, а это уже 300 с лишним тысяч.
Что побудило опытного, циничного дельца к подобным расходам? Расчет, говорит Драйзер. О щедрости магната протрубили все газеты, даже за океаном; ему обеспечены огромные кредиты, понадобившиеся на достраивание империи, конкуренты раздавлены, городские власти не смогут отказать благотворителю в концессии, и наконец-то линии чикагской надземки сойдутся в руках Каупервуда.
Осуществление мечты. Дороги, в особенности рельсовые – конка, позднее трамвай в городе, Северо-Пенсильванская или другая какая-нибудь железная дорога, соединяющая город с деловыми и промышленными центрами, путь, прокладываемый с Восточного, давно освоенного побережья, через брызжущий энергией, кипящий иммигрантами Средний Запад на «территории», еще не ставшие штатами, – Нью-Мехико, Техас, – все эти американские дороги пробуждали в селф-мейд миллионерах трепет, сродни религиозному, и простодушную, ребяческую жадность, как блестящие, да к тому же работающие игрушки.
«Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало – телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами»[1 - «Финансист». – Пер. М. Волосова.]. Так начинает Драйзер первую часть трилогии «Финансист», заражая читателя той страстью освоить, познать – даже физиологически – Америку, с какой пришло в мир поколение Йеркса.
В 30-е годы XIX века появилась в Североамериканских Соединенных Штатах новая поросль, со своей особенной физиономией, на многие годы, а может, и навсегда определившая в глазах мира образ Америки. Государство еще только складывалось, остро чувствовалась недостача многих элементов общественной, упорядоченной жизни. Стихийные массы иммигрантов, разноплеменных и разноязыких, прихлынувшие к Восточному побережью Штатов, с трудом перемалываемые, перевариваемые в общем котле; еще один исход – неукротимое, стихийное движение к Западному побережью. Вестерн, где «смит-и-вессон» – закон, отчасти романтически преувеличивает, и все же значительная часть населения жила тогда в состоянии догосударственном, и догосударственность проявлялась не только в захвате чужих земель (отнимавшихся и у индейцев, и у Мексики, и у тех, кто имел несчастье поселиться в Америке раньше), но и в эдаком раннефеодальном укладе, в отсутствии хозяйственных связей, иерархии, общеобязательных норм. Западные и южные земли, заселявшиеся пришлыми и более-менее коренными американцами, проходили через период карантина, когда именовались не штатом, то бишь государством, а территорией. Конечно, в городах Восточного побережья, в Нью-Йорке, тем паче в Филадельфии и чинном Бостоне, сохранялась в том или ином виде европейская привычка порядочности и закона; выработалось нечто похожее (и вместе с тем непохожее) на феодальный строй в рабовладельческих штатах, но вокруг и внутри, в растущих без плана уродливых городах, бродила и бушевала та жизнь, о которой в Европе забыли с IX-Х-XI столетия. Тогда, спустя века после падения Рима и окончательного разрушения империи, пробудилась энергия нового строительства, выплеснулась жестокой предприимчивостью, разбойничьими набегами. Европа строилась викингами-норманнами, угнездившимися на Сицилии, во французской Нормандии, в Англии, в Новгороде и Киеве. Начинали с набегов на длинных кораблях, резни и пожаров, насилия; во втором-третьем поколении крестились, закладывали города, той же сильной рукой гарантировали защиту и правосудие.
Быстро и беспринципно богатевших одногодков Каупервуда сравнивали порой с викингами, но устойчивее другое сравнение – robber barons, бароны-разбойники. Чуть более поздняя эпоха, никак не желающая принять устойчивую форму Германская империя, «рыцари», засевшие в замках над Рейном, каждый сам себе господин, грабящие путников и воюющие с соседями. Какое сравнение точнее? Размах у Йеркса, Моргана, Рокфеллера «викинговский», одним замком и его окрестностями никогда бы не ограничились, и по сути, работа их скорее «норманнская» – строительство, пролагание путей (еще и отсюда такая любовь к железным дорогам и телеграфу). «Бароны-разбойники» – определение в первую очередь оценочное, осуждающее, хотя в нем есть своя точность: не сплоченная дружина викингов, а эгоистичные одиночки, не встреча двух культур, языческих мореплавателей и оседлого христианства, но бродило, из самого себя порождающее и языческую жажду наживы, и легкость принятия новых форм, и «староевропейскую» тягу к юридически упорядоченному общежитию, гражданской личности.
В поколении 30-х годов (в том же 1837-м, что и Йеркс – Каупервуд, родился Джон Пирпонт Морган, самый знаменитый из викингов-разбойников) каждый сам себе и языческий вождь, и крестивший его епископ. Необходимость империи, иерархии эти бароны ощущали со всей остротой, пусть и удобнее быть разбойником в вакууме власти.
Специфику тех лет уловить очень трудно – как передать почти отсутствие, нащупывание, налаживание? Каких греческих или схоластических философов привлечь, чтобы описать переходную эпоху, когда все уже присутствует в потенции (не было бы представления о законах, этике, о системе денежного обращения, транспорте и культуре, не было бы потребности в них, так откуда бы им взяться?), но ничего еще нет в реальности. Показать становление едва ли возможно, однако стоит попытаться из нашего «после» нарисовать состояние «до». Именно это делает Драйзер в прологе «Финансиста», перечисляя вещи, которых «тогда еще не существовало». И обратим внимание, что все это не просто явления технического прогресса, а средства связи. Дороги, телеграф, почта. Деньги.
Деньги, понятное дело, основной сюжет трилогии «Желание». По способностям и призванию, по духу времени Фрэнк Каупервуд – делатель денег. Зачем эти деньги понадобились, какие именно желания могут они исполнить – об этом речь пойдет во второй и в третьей части саги. Тогда обнаружится власть денег, даст себя знать разбойничий барон или – подымай выше – купец-нобиль, в духе Медичи, строящий замки и университеты, скупающий картины и женщин. В первом томе потребительская функция денег достаточно скромна – выстроил человек к сорока годам особняк на пару с отцом, завел приличный выезд. Не более чем уровень «хорошего среднего класса». Все деньги Финансиста не в личной собственности, а в движении, в сложнейших комбинациях, авантюрах, именно в делании денег. Деньги ради них самих, социальная игра, незримый, а потому таинственный и обожествляемый идолопоклонниками ток, реальный, как электрический ток в телеграфных проводах, и столь же необходимый для современного общества, для его функционирования в качестве единой системы.
«Вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1846 году Министерство финансов Соединенных Штатов организовало свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня.
Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона; в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты, в Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами; они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету – единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой валюты в те времена не существовало».
В этом тяжеловесном, но мощном, энергичном описании (стронулись с места каменные глыбы) каждое слово – попытка движения, усилие передать меняющуюся ситуацию, показать Америку такой, какой ее помнили родители Драйзера (его отец иммигрировал в Штаты из Германии в 1844 году), какой ее могли застать в своем детстве старики, в 1912 году читавшие «Финансиста». «Начинала переходить», «мало-помалу», «становился», «стал более быстрым», «начали входить», «уже – но еще», «совсем недавно – еще не была». Даже поклонники Драйзера (а их среди соотечественников было немало) признавали, что стиль писателя подчас неуклюж. «Тяжелая походка», говорил Шервуд Андерсон. Шаг пролагателя путей.
Все «бывшее» настолько отличалось от того, чем оно «стало», что реалистический роман звучит порой волшебной сказкой, эпосом или же учебником. В первых главах Драйзер плотно рисует исторический и экономический фон, и эти финансово-политические подробности могли бы стать невыносимо скучными, «как в учебнике» (разве что позабавит сопоставление «тогда у них» и «теперь у нас»), но в том-то и суть, что учебник преображается в эпос, эпос ценится как учебник, поскольку речь идет об эпохе становления. Взять хотя бы Гомера: каждое сражение, «экшн», тормозится подробным изложением генеалогии противников или же описанием их оружия, а то и рассказом о том, как шлем, украшенный клыками кабана, передавался из одного царского дома в другой, покуда не прикрыл голову Одиссея, собравшегося в ночную разведку. И не только оружие – столь же выпукло обрисованы орудия ремесленника, характеры и манеры тогдашних людей, привычная пища, общественный уклад. Пейзаж выполнен в «Илиаде» так детально, что по этим указаниям Шлиман решился отыскать место, где была Троя: на таком-то расстоянии от моря, возле горячего и холодного источника, а рядом высокий курган. «По Гомеру» ученые XIX – XX веков восстанавливали быт, государственный строй, мифологию сразу двух эпох – описанной Гомером и той, в которую он жил; «по Гомеру» древнегреческие мальчики веками изучали риторику, мореходное и военное дело, географию. Все они – древнегреческие мальчики в большей степени, ученые Нового времени в меньшей – догадывались, что Гомер и выдумывает, и ошибается, и путает. Но другого источника, другого учебника не было и быть не могло.
Примерно так же обстоит дело и с Драйзером. Он ошибается, путает, преувеличивает, но откуда еще нам узнать о том сумасшедшем времени? Из учебников, написанных еще позже, из истории, которая засушит подробности, остановит ход времени и подаст становящееся как нечто статичное? Хотя великие предшественники Драйзера, классики американской литературы, застали эпоху позолоченного тельца (Фенимор Купер и Вашингтон Ирвинг – зрелыми мужами, Эдгар По и Натаниэль Готорн – вступая в творческую жизнь), в их книгах она преломляется скорее настроением, аурой, недомолвками или даже уходом от разговора, чем собственно приметами времени. Если сложить эти «недомолвки» и «настроения» – сагу Фенимора Купера, уводящего читателя в девственные леса Нового Света, светские, старинные сюжеты Ирвинга – то катание на льду в голландском еще Нью-Йорке, то падение далекой Гранады в далеком XV веке, – если добавить ужасы Эдгара (для которого опять-таки не составляет труда перенестись в Париж, Испанию или Германию) и мрачного Готорна с его семейными преданиями, то получится весьма выразительная картина – вернее, отсутствие таковой. Там, где полагается быть современной этим авторам Америке двадцатых-тридцатых-сороковых годов, – пустота. Но «форму» этой пустоты мы угадать можем по способам умолчания и уклонения – Европа, вымышленные «другие страны» и «другие времена», сожаления о разрушившемся укладе, испорченность человеческой натуры, страх. Вакуум власти и организованной общественной жизни, стремительные перемены, растерянность. Кто мог знать, что из всего этого выйдет Северная Америка? Могли выйти и Парагвай с Гондурасом.
Единственный из великих, кто решился писать о современности, – Марк Твен. Единственный цепкий к мелочам и реалиям взгляд, единственный, кто смел смеяться. Три классических способа уловить время – трагедия, уводящая к вечному прочь от того, что творится сейчас (но движением прочь указующая на то, от чего уводит); комедия, норовящая на текучем и подвижном материале оставить столь же текучий и подвижный отпечаток; эпос – он пишется спустя эпоху, но такова уж Америка и таков уж XIX век – эпоха сменилась за треть столетия. Эпос искажает реальность по-своему, но пора уж привыкнуть к тому, что только искаженная реальность и существует. Когда все это еще «было» и трепетало, Марк Твен мог поймать больше живых и выразительных деталей, вот только никто не знал, к чему все это ведет, какие детали действительно важны, как рассыпанные подробности сложатся в мозаику. Драйзер – знал. А потому его трилогии присущи и занудство эпоса, и невольное сожаление о прошлом (осуждай не осуждай баронов-разбойников, но это уже прошлое, и кратковечность наша внушает печаль), и сильные характеры (кто устоит перед Фрэнком Каупервудом? Кто устоит перед Ахиллом и Одиссеем? Хотя, с точки зрения обычной человеческой нравственности, многое можно сказать против любого из них). И главное, в его повествовании рассыпаны детали, не только «учебниковые», но вроде бы случайные, так, мимолетные подробности жизни, однако они-то и скажут нам больше всего.
Легкий флер сказочности вполне уместен, пока речь идет о детстве героя. Именно здесь, на первых страницах книги, возникают и обстоятельные «гомеровские» отступления – мифы, поиски первопричины, «начала» событий, – и гомеровски точно (гомеровски неточно) воспроизведенный предметный мир. Не забыто и пианино, выписанное из Европы. Одна лишь деталь, и мы вдруг отчетливо понимаем, что такое Америка – самая культурная, восточная ее часть, Новая Англия! – в тридцатые-сороковые годы XIX века. Не было во всей этой двести лет как освоенной провинции ни одного мастера, способного изготовить и настроить пианино. Музыкальные инструменты везли из Европы, на тогдашних медлительных судах – океанских пароходов «еще не существовало». Везли инструменты, книги, учителей, моды. Поколение Йеркса, внуки и правнуки Революции, возвращалось в Европу.
Каупервуд-отец выписывал из Европы культурный товар – уже достаточный признак богатства. Сын же самолично отправляется в Старый Свет посмотреть, что там нужно ему. Это опять-таки соответствует исторической истине: богатые американцы с женами и дочерьми-наследницами зачастили в Европу с середины XIX столетия, с тех пор и стали типажами карикатур и объектами брачной охоты. Фрэнк Каупервуд – отнюдь не самый проворный в своем поколении, «выездным» он становится уже в зрелом возрасте (его одногодок Морган заканчивал университет в Европе; правда, связи наладил еще старший Морган, банкир). В светских семействах Новой Англии поездки в Европу сделались сезонными, богачи одевались в Лондоне и Париже, у Ворта. Драйзер подчеркивает, что при всех амбициях и грандиозном богатстве Фрэнка в высший свет его семейству попасть не удается. Богатства, нажитого Фрэнком, чуть-чуть не хватает, чтобы «простили все», репутация у всякого миллионера неважная – поскольку наследственных имений в Новом Свете не водилось, огромное состояние, как и сейчас, само за себя говорило: «нахапали!», но и тут Фрэнк чуточку переборщил; к древности рода опять-таки требования предъявлялись не слишком высокие – Каупервуды издавна укоренились в Америке, и должность банковского служащего, а затем и директора, каким был Каупервуд-старший, – вполне достойное положение (а дядя и вовсе плантатор), однако были уже в Филадельфии и Нью-Йорке действительно старинные семьи с разветвленным родством. По всем трем параметрам Каупервуды недотягивали, причем недотягивали самую малость, вот что обидно, и будь сам Фрэнк помельче душою, он бы извелся в попытках нагнать элиту. Порой, особенно в молодости, с ним такое случалось: он шел проторенной дорогой и старался подражать тем, кто впереди. Но после драматических испытаний, составивших первую часть трилогии, Каупервуд, вот уж действительно, пошел своим путем.
Он не подражает, он делает то же самое, что все остальные, Морганы и Рокфеллеры, – строит нью-йоркский дворец в стиле дожей, собирает коллекцию старых мастеров, подумывает о египетских древностях, но все это не потому, что так делают другие, а потому, что это ему органично. Это было органично для поколения «титанов» – верное, точное имя дал Драйзер второй части трилогии. Бароны-разбойники прокладывали железные дороги, налаживали банковскую систему, заново строили общество. Они созидали небывалое и уже потому были титанами, но есть в этих титанических усилиях своя ирония: выстраиваемая иерархия предполагала традицию, проложенные пути заворачивали в Европу. Каупервуду-старшему достаточно было привезти пианино, чтобы приобщиться к мировой культуре. Теперь перевозили памятники архитектуры, картинные галереи, сфинксов. Гонки в немыслимом темпе – за два десятка лет ухватить европейское тысячелетие, опрокинуться в легендарные дали Египта, не пропустить и последнюю парижскую моду. Простым приемом Драйзер показывает нам и скорость, и страх отстать: жена Фрэнка «недотягивает», а потому из ценного приобретения превращается для супруга в обузу. Где уж ей в тысячелетней культуре сориентироваться – чтобы помочь ей разобраться в модных одежках и удовольствиях, и то пришлось нанимать чичероне. Зато сам Фрэнк будто и не участвует в соревновании. Он строит дворцы и галереи не потому, что «все» так делают, а потому, что в нем бушует властное желание завладеть красотой. Он ни в коем случае не подражатель, он – первооткрыватель, пусть и открывает давно уже устоявшееся, и не один открывает, а со всем своим поколением магнатов – неважно, усилие все то же, индивидуальное, стихийное. Именно потому, что его открытия – личные, Фрэнку в какой-то момент удается переплюнуть всех, замахнувшись уже не на искусство или историю, но потянувшись к звездам. Телескоп и обсерватория! Строили больницы и стадионы, жертвовали на ученые штудии, но вот так, одним махом Луну с неба, еще никто не отваживался.
Настолько очевидна символика этого жеста, настолько ясно сказался в нем характер, что завершающие эпизод рассуждения автора о практической выгоде, о голом расчете, хуже того – о рекламном трюке, туфте вместо реального дела – разочаровывают. А те слова, которые сказаны в начале этой сцены, типичная для Драйзера (и для описываемой эпохи) примитивно-торжественная философия – мол, ученый верил в «торжество истины», для магната же и «знаменитые университеты суть явления преходящие и ничтожные в общей бесконечной смене вещей», – как-то уж чересчур обобщены, и мы перестаем чувствовать за ними личности собеседников. Гораздо существеннее разговор о шлифовке линз: ректор объясняет спонсору, как готовится стекло для телескопа, – специалист-оптик, лучший в своем ремесле, трет линзу большим и указательным пальцами, терпеливо, неустанно, четыре года или пять, пока в этом стекле не отразятся звезды. Вот – суть и смысл. Вот на чем сошлись магнат и ученый – во что бы ни верил (и в чем бы ни разочаровался) каждый из них, они верят в дело своих рук, не устрашатся по крупинкам, усердным усилием пальцев, годами прокладывать путь к звездам.
Как же автор этого не видит? Зачем повторяет, навязчиво и утомительно, прописные истины о хищническом капитале, эгоистическом индивидуализме, голом азарте наживы и потворстве собственным желаниям – «мои желания закон», таков, дескать, был девиз Фрэнка, давший название трилогии. Ведь Каупервуд глубже, богаче, неожиданнее, чем насильственно выводится автором.
Вот замечательно! Выходит, мы лучше автора знаем его персонажей? Можем превознестись над Драйзером, над его реализмом и «натуризмом», стремлением постичь социальные законы, типизировать и обобщить, а уж его симпатии к Советскому Союзу, принесшие ему миллионные тиражи на русском языке (собрания сочинений выходили с 1928 года, а в 1945-м, незадолго до конца жизни, Драйзер успел вступить в коммунистическую партию), – чем не основание для превосходства, для нашего права посмотреть на него с высоты опыта не нами прожитых годов? А если взглянуть иначе? Велик и славен автор, не поработивший своих героев, и мало кому это удавалось. Драйзер пишет людей такими, какими их видит, и говорит о них то, что думает, однако они остаются настолько живыми и самостоятельными, что читатель может увидеть их по-другому, по-другому понять, сделать совсем иные выводы.
Отчасти это удается Драйзеру именно благодаря предельному реализму – благодаря его честности, отказу от подтасовок даже во имя идеи. Он имел определенные – если угодно, предвзятые – представления об источниках громадных частных состояний, о нравственных свойствах и социальном значении людей, добивавшихся такого богатства, о закономерностях развития общества. Он ставил себе определенную задачу: изучить предысторию, корни тех явлений, которые наблюдались в окружавшей его действительности. Возможно, все ответы были известны ему заранее, однако это не помешало Драйзеру задавать вопросы. Наверное, сыграл роль и выбор героя: Драйзер не выдумал его, а взял из жизни, вплотную следовал за обстоятельствами биографии Чарльза Йеркса, прототипа Фрэнка. В трилогии обильно использован документальный материал, газетные статьи, муниципалитетные, судебные, биржевые известия. Автор мало выдумывает и еще реже позволяет себе что-то пропустить. Укладывается известный поступок Йеркса в схему, не укладывается – рассказать о нем Драйзер считает обязательным. Таким образом не замысел, не идеология, не художественный эффект, но сама жизнь определяет победы и поражения Фрэнка, неожиданность или предсказуемость его поступков и час его смерти. Никакая типология тут не властна. Вот почему на смену второй книге – «Титану», где бушевала индивидуальность и ничто не полагало предела дерзаниям, придет заключительная, «Стоик», в которой титану придется смириться с неисполнимостью замыслов, с нехваткой земного времени, с подкараулившей за углом смертью от болезни почек в 68 лет. Все, как было.
Чарльз Йеркс родился в 1837 году, умер в 1905-м. Годом раньше Драйзер издал первый свой роман, оскорбившую блюстителей морали «Сестру Кэрри». Успеха не имел, а критика была столь сурова, что несколько лет Драйзер вовсе не мог работать, пережил депрессию, бедность, развелся с первой женой. К 1910 году несколько оправился и написал вторую книгу, в общем-то, в том же духе – опять внебрачные дети, неузаконенная связь, – но мягче и благочестивее. «Дженни Герхардт» особых протестов не вызвала, но и популярности автору не принесла. И только последовавший спустя год с небольшим «Финансист» сделал Драйзера «современным классиком». Драйзер обрел свое призвание – писать не просто романы о людях, о любви, но романы-исследования, вгрызаться в недавнюю историю, откровенно говорить о таинственной силе денег. С этим романом к нему пришел если не успех, то по крайней мере устойчивая писательская репутация. Не только герой обязан вторым рождением автору, но и автор – герою.
Эти двое шли навстречу друг другу несколько десятилетий, слишком уж несходным был их «бэкграунд». Теодор Герман Альберт Драйзер – двенадцатый, предпоследний ребенок в большой и неудачливой семье. Его отец, Иоганн, был иммигрантом первого поколения, немецким католиком; мать, Сара Шёнёб, принадлежала к меннонитам, одной из старинных и замкнутых религиозных групп. Подобно квакерам, меннониты проповедовали любовь и непротивление, были скрупулезно честны, жестко требовательны к своим собратьям, с чужими общались мало. Брак с католиком отрезал Сару Шёнёб от родных. Две традиции – католическая европейская и местная (меннониты, спасаясь от гонений, переселились в Америку в XVIII веке) – соединились, оторвавшись от своих истоков.
Многочисленный выводок подрастал, непричастный к американским корням матери, не зная своих бабушек и дедушек по обеим линиям, формально следуя «импортированной» религии отца. Американцы во всем – в своей одаренности, беспокойстве и жажде чего-то нового, необыкновенного, в праве на любовь, удачу, богатство. Это уже не продолжение естественного хода событий, не очередное поколение, хранящее уклад предков, тот уклад, которому оно обязано своим появлением на свет, но великая случайность, Великое-Могло-Не-Быть. Их родители не были предназначены друг для друга; незапланированная, «неправильная» встреча дала этим детям жизнь. Свободный выбор, не признающая условностей любовь, особый путь, пролагаемый каждым человеком в жизни, – вот что станет сюжетом романов Драйзера, его открытием Америки.
Мы увидим это в его романах: тип складывается из уникальных, непохожих друг на друга, «неправильных» судеб. Дочь фермеров – актриса варьете, свободно меняющая любовников; девочка из набожной лютеранской семьи – содержанка богатого наследника; отпрыск миссионеров – аферист, а в итоге – убийца; сын провинциального торговца швейными машинками – покоряющий столицу «гений». И все эти уникально-типические сюжеты автобиографичны. Одна за другой при сомнительных обстоятельствах покидали дом сестры, старшие братья выбирали ненадежные и полные соблазнов профессии музыкантов и художников. Немыслимые в поколении родителей грехи для молодых стали нормой, городским, «американским» образом жизни. Гневно отреагировав в первый, во второй раз, кого-то из отпрысков изгнав, чуть ли не прокляв, старшие Драйзеры в итоге смирились с новой реальностью, как со своим поражением.
Такими, уже отшумевшими, безропотными и не понимающими ничего – даже языка своих детей, – выведены старики-немцы в «Дженни Герхардт» или миссионеры, вырастившие будущего убийцу в «Американской трагедии». Со временем, конечно, Драйзер вернется к истокам и попытается понять «отцов». В начале писательского пути ему – что тоже естественно – интереснее путь и психология старших братьев и сестер.
Судьба знала, что делала, помещая будущего историка в семью, соединившую и смикшировавшую два наиболее выраженных типа – коренных американцев и иммигрантов первого поколения, европейских католиков и крепких местных протестантов. Столь же мастерски определила ему судьба и место в этой семье. Тридцатилетний Иоганн Драйзер и семнадцатилетняя Сара Шёнёб поженились в 1851 году. Будь Теодор Герман их первенцем, он был бы всего на 15 лет младше Фрэнка, стал бы сверстником младшего в клане Каупервудов. Вместо этого он оказался замыкающим в семье Драйзер и родился в 1871 году, поколением позже старшего из своих братьев. Семейная история, встреча отца и матери, их первоначальные удачи и окончательный крах – все было для него далеким прошлым, эпосом.
Поработав недолго на лесопилках Новой Англии, выходец из Германии Иоганн Драйзер отправился на Средний Запад, где в основном и оседали немецкие иммигранты, в Огайо встретил свою любовь, с ней вместе переселился в Индиану. Здесь они сменили несколько городов – Форт-Уэйн, Салливен, Терра-Хот. Теодор появился на свет в Терра-Хоте.
«Немецкий портняжка» поначалу торговал шерстью, потом сделался управляющим на шерстопрядильном заводе и получал достаточное жалованье, чтобы со временем войти в партнерство или же начать собственное дело. Старомодная бескомпромиссная честность все еще ценилась в пятидесятые – начале шестидесятых, когда начали сколачивать миллионы «дальновидность и личное обаяние», как определяются два коренных качества «финансиста». Иоганн Драйзер не обладал напором и «личным обаянием» в этом смысле – то есть умением «разводить людей на бабки», – и дальновидностью тоже не обладал. Гражданская война подогрела спрос на всякое сырье, в том числе шерсть и ткани, рынок процветал, как это обычно и случается во время войны. Драйзер-старший решился завести сукновальню. Война закончилась, экономические интересы сместились, и пожар, в 1869 году уничтоживший маленькую фабричку, был не роковой случайностью, а скорее поэтически оправданным финалом. «Подняться» Драйзерам больше не удалось, тем паче что отец получил тяжелую травму и остался инвалидом. Как и старику Герхардту, надежность и честность обеспечивали ему разве что работу сторожа, и в поисках работы приходилось переезжать – то в большой город (несколько месяцев семейство жило в столице штата, Чикаго), то, наоборот, в город поменьше, где можно было снять домик с садиком, прожить подешевле. Нередко семья разделялась, отец отправлялся на заработки, старшие откалывались, и Теодор оставался с матерью, ближайшей по возрасту сестрой и братиком-последышем, Эдом. Трое старших детей умерли в детстве, Теодор был уже не двенадцатым, а девятым.
Средний Запад, самая в ту пору «середка», перевалочный пункт Америки, и давно уже оседлые фермеры, и движущиеся куда-то на дальний Запад переселенцы, и тихая глубинка, и шумный город – все прошло перед глазами подрастающего мальчика. И среди этих пестрых картин глаза его, его душа выхватили одну, волшебную, неотразимо-привлекательную – Чикаго!
«Ребенку, человеку, одаренному воображением, и тому, кто никогда не путешествовал, момент приближения к большому городу всегда сулит чудеса. Особенно если это происходит вечером, в тот таинственный час борьбы света с мраком, когда весь живой мир переходит из одного состояния в другое… Улицы, фонари, ярко освещенные комнаты, где накрыты обеденные столы, – все это для меня!» – так видит Чикаго восемнадцатилетняя Кэролайн, заглавная героиня первой книги Драйзера, в 1889 году – примерно в тот же год, когда на завоевание местной столицы явился сам Теодор. Но десятью годами ранее такой же, если не более яркий образ предстал глазам сорокалетнего циничного магната:
«Чикаго – город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда! Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции Западных штатов? Город, подобный ревущему пламени, город – символ Америки, город-поэт в штанах из оленьей кожи, суровый, неотесанный Титан, Бернс среди городов! На берегу мерцающего озера лежит этот город-король в лохмотьях и заплатах, город-мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, – бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Еврипида. Город-бард – о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция! Италия, восхваляй свой Рим! Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века! Сюда, дивясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из Западных штатов и Восточных. Здесь голодные и алчущие труженики полей и фабрик, носясь с мечтой о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи.
Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хемпшира, Мэна стекался сюда странный, разношерстный люд; решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией, все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел фантазер-мечтатель, лишившийся своего родового поместья на Юге; исполненный надежд питомец Йельского, Гарвардского или Принстонского университета; вольнолюбивый рудокоп Калифорнии и Скалистых гор с мешочком серебра или золота в руках.
Уже стали появляться и растерянные иностранцы – венгры, поляки, шведы, немцы, русские. Смущенные незнакомой речью, опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности, они селились колониями, чтобы жить среди своих.
Здесь были проститутки, мошенники, шулеры, искатели приключений par excellence! Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века и пировали всласть в этом чудо-городе – центре Западных штатов»[2 - «Титан», пер. В. Курелла.].
Европейской литературе не под силу такой опыт. Чтобы воспеть Средний Запад, нужен Восток. «Тысяча и одна ночь», «Сон в нефритовом павильоне», «Повесть о Гэндзи» – Индия, Персия, Япония и Китай, перемешавшись, создадут Чикаго Драйзера.
Бесконечная погоня за богатством – именно бесконечная, а не направленная к цели, как на Западе. Многоликость. Постоянно меняющиеся любовницы, и столь сильно растворение человека в человеке, автора в писателе, что тут-то как раз Драйзер воспользовался не чужими, а собственными биографическими фактами и наделил Каупервуда собственными любовными историями, перемешав элементы, – будут у Каупервуда-стоика случайные связи, и новый брак, и прочная последняя любовь к молодой женщине, и короткий роман с внучатой племянницей. У Драйзера родственница, последняя любовь, второй брак совпали в одной женщине, «окончательной» жене, Элен Ричардсон, однако в восточной литературе все текуче, легко перетасовываются кусочки великой мозаики, многократно преломляется одна и та же любовь – и, может быть, одна любовь и мерцает за всем множеством любовей.
Чреда меняющихся явлений, метемпсихоз и майя – над этим задумывался порой Каупервуд, но ему было некогда. Его подругу Драйзер после смерти Фрэнка отправит в Индию, четыре года проведет Беренис у ног гуру, чтобы постичь не только текучесть и иллюзорность бытия, но и то, что, увы, ускользнуло от Фрэнка, – стоящую за иллюзорностью реальность, единство, присутствие божества в каждом. Вернувшись из этой поездки, Беренис застанет дело жизни Фрэнка разрушенным. Слишком глубоко зарывался он в свои финансовые аферы, и только на его «харизме» они и держались. Без него развалилась транспортная монополия в Чикаго, не состоялся план строительства метро в Лондоне – овладеть «подземкой», самым нутром Старого Света! С молотка пошел особняк, из которого Фрэнк замышлял сделать общедоступный музей, по отдельности распродано собрание картин. Что осталось? Пышная гробница, где рядом с ним упокоилась нелюбимая жена. Чикагская обсерватория – единственный памятник, хранящий его имя.