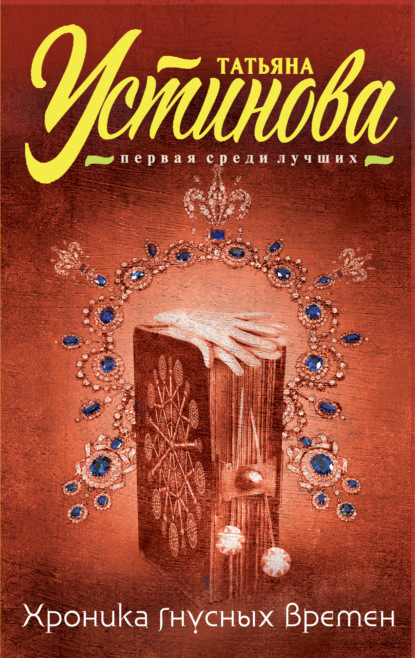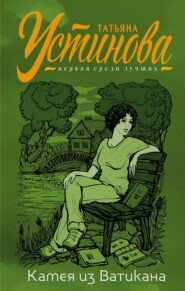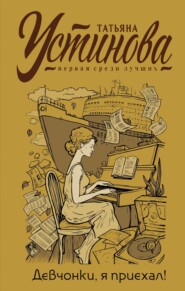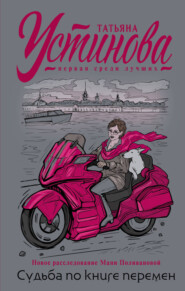По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хроника гнусных времен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он посмотрел на часы. Так, чтобы она видела.
– Ладно, – согласился он, как будто после тяжелых раздумий, – варите. Что теперь делать.
Она сразу прошла на кухню, даже свой портфель в коридоре не оставила. Кухня была огромной, с гигантской старомодной плитой, с тяжелой мебелью – высокие стулья, темный буфет, круглый стол на выгнутых львиных ногах. Кирилл остался в коридоре. Эти пробки не давали ему покоя.
– Здесь можно курить?
– Конечно, – ответила она и что-то с грохотом уронила, – бабушка всегда курила и всем разрешала. Она говорила, что Ахматова всегда и всем разрешала курить в ее присутствии, а она ничем не хуже Ахматовой.
– Ну да, – пробормотал Кирилл неопределенно. – Мне бы еще руки помыть.
– Ванная дальше. По коридору и направо. На втором этаже тоже есть ванная.
– На второй этаж я, с вашего разрешения, не пойду.
Она не стала его провожать, и он вполне понимал ее. Именно в этой ванне умерла ее бабушка, уронив в воду злосчастный фен. Интересно, кто теперь будет жить в доме, похожем на склеп? Она сама? Или, может, ее родители или – кто там? – племянники и племянницы?
Кирилл прошел по коридору, заставленному книжными шкафами и круглыми столиками с сухими цветами – он никогда не видел таких коридоров, – и зажег свет. Эта комната – по-другому ее невозможно было назвать – тоже была огромной. Кирилла поразило окно, выходящее в сад, и еще то, что ванна стояла прямо посередине.
Ему никогда не приходило в голову, что можно принимать ванну, глядя в окно.
Помещичий быт, черт его побери.
Низкая табуреточка, длинный шкаф с узкими дверцами, три полотенца на крючке, масса дамских штучек – флаконов и банок. Эта самая бабушка, очевидно, и в старости очень любила себя. Чего-то не хватало, и Кирилл быстро понял, чего.
Он ополоснул руки и вытер их прямо о свои светлые брюки. До полотенец ему не хотелось дотрагиваться.
– Здесь все поменяли, – негромко сказала Настя, и он оглянулся. Она стояла в коридоре, в ванную не входила. – Мама с Мусей здесь все… убрали. Сразу же.
– Как же ваша бабушка без зеркала обходилась? – спросил Кирилл.
– Да она его разбила, – Настя махнула рукой, – вернее, не она, а Муся. На прошлой неделе. Сердилась ужасно, говорила, что примета плохая, что теперь что-нибудь непременно случится. И случилось…
– Чушь, – сказал Кирилл быстро, – не ерундите. Никаких таких примет нет.
– И, главное, зеркало такое здоровое было, – проговорила она и вдруг заплакала, бурно, сразу, слезы полились ручьем, – я его всегда… полотенцем завешивала, потому что оно мне… мешало, когда я в ванне сидела… Сидишь как дура и смотришь на свою красную рожу, а бабушка сказала – примета плохая…
Он не знал, как нужно утешать. Он не любил плачущих женщин и не понимал, что с ними делать.
– Зажгите свет, – велел он, – я ваши пробки посмотрю. А то выключится что-нибудь ночью, перепугаетесь.
– Где зажечь? – Она судорожно всхлипывала, утирала щеки узкой ладошкой.
– Везде, – сказал он и вышел из ванной.
По очереди нажимая на белые кнопки, он выключил и включил свет во всем доме.
Странное дело.
– У вас их часто выбивает? – Что?
– Пробки часто вылетают?
– Не знаю. Нет. Это же просто поселок, здесь нет никаких… энергоемких предприятий. Кофе готов, Кирилл Андреевич.
В молчании они попили кофе из темно-синих чашек. Его бабушка когда-то мечтала о таких. У соседки Клавдии Степановны были, а у нее нет. Теперь он мог купить ей завод, который делал такие чашки, только ей не нужен был завод.
Впервые в жизни Кирилл Костромин пожалел, что она умерла и он не может подарить ей темно-синюю чашку. Он никогда и ничего не дарил никому из родных.
– Я, пожалуй, поеду, – сказал он, поднимаясь. Больше ему ни секунды не хотелось оставаться в этом доме, с его тайнами и синими чашками. – Спасибо за кофе.
– Спасибо за участие, – сказала она и не поднялась, чтобы его проводить, – в город дорогу найдете?
– Как-нибудь, – пробормотал он.
Дверь тихо притворилась за его спиной, он сбежал с крыльца и остановился, прикуривая и выжидая, когда повернется ключ.
Ключ повернулся, и он зашагал по гравиевой дорожке к своей машине, дремавшей за кованой железной решеткой.
Усевшись, он первым делом включил приемник, который бодро запел про тополиный пух, жару, июль, заглушая все связные мысли.
Ему хотелось скорее уехать, и, не жалея машину, он дал по газам, перескочил через канаву и на большой скорости пролетел тихий переулок. В зеркале заднего вида крутилась желтая пыль, и Финский залив блестел свинцовой потемневшей водой.
В темном доме пахло сухими цветами и бедой. Он голову мог дать на отсечение, что там пахло убийством.
С пробками что-то не то.
Когда бабушка-старушка уронила в воду фен, выбить должно было совсем другую линию или все пробки сразу. Если бы выбило все, их все бы и включили, когда нашли тело. Скорее всего выбило только ту пробку, которая «отвечает» за ванную. Ее включили, когда обнаружилось, что случилось несчастье, а на соседнюю никто даже не посмотрел, она так и осталась выбитой. Непонятно только, почему.
Или кто-то выключил ее случайно, когда выключал ту, другую, чтобы создать видимость короткого замыкания? Но если ту выключили, значит, дело вовсе не в том, что бабушка уронила в воду фен.
Или все это просто случайность, и пробки вылетают постоянно, только девушка Настя об этом ничего не знает?
Впрочем, решил Кирилл, это опять не его проблемы.
Это ее проблемы, и пусть она их решает как хочет. Как сможет.
Жара навалилась на Москву, как борец сумо на боксера веса пера. Бумаги липли к рукам, а рубахи к спинам, на станциях метро продавали хлипкие вьетнамские веера, подростки в закатанных штанах и без маек неподвижно сидели в фонтане на Пушкинской площади.
Спастись было невозможно.
Кирилл устал и хотел в отпуск.
Он с удовольствием думал о том, как прилетит в Дублин, где всегда семнадцать градусов и шумит холодный океан. Думал о крохотных прокуренных пабах и густом темном пиве в тяжелой кружке. Думал о предстоящем двухнедельном одиночестве, которое ценил больше всего на свете. Думал о прохладе маленького дорогущего отеля в самом центре города и ирландском виски в низком и широком бокале.
И совсем не думал о делах.
Дел было очень много. Перед самым отъездом в отпуск Кирилл собирался еще наведаться в Питер, где дела шли не так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, Кирилл знал, что дела никогда не идут так, как хотелось бы, и не разделял пессимизма своих замов, как раньше не разделял их оптимизма.