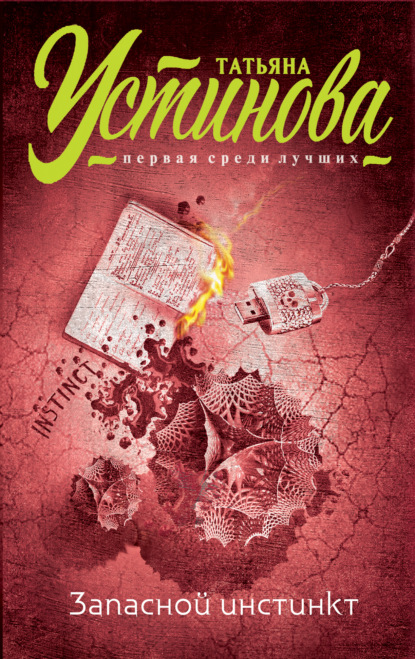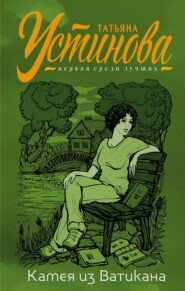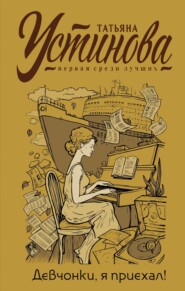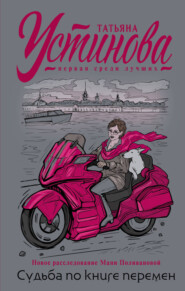По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Запасной инстинкт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вода на губах была на вкус, как тюрьма.
Забавно.
Его продержали в кутузке три дня, а потом выпустили, «за отсутствием улик». Наверное, если бы улики «присутствовали», его посадили бы всерьез. Вот черт, ему даже в голову не могло прийти ничего подобного!..
Вода попала в горло, и он закашлялся. В голове сильно и быстро стучало – от горячей воды и кашля.
Нужно выходить, иначе он свалится в обморок, ударится головой о «каминную стойку», и ему придет конец, как Феде.
Феде проломили голову в его съемной квартире, и менты решили, что проломил он, Арсений Троепольский, который оказался на месте происшествия первым, – больше свалить не на кого, больше там никого и не было.
Троепольский работал с Федей всю жизнь. Он не помнил уже, когда работал один. О том времени ничего не осталось – ни воспоминаний, ни побед, ни потерь.
Насмешница Варвара Лаптева называла их с Федей «Тарзан и Чита». Тарзан – начальник. Чита – заместитель. Идеальная пара. Тройка, если прибавить Сизова, последнего из могикан.
Кто, черт возьми, посмел убить Федю?! Кто?! Зачем?!
В голове вдруг зашумело так сильно, что пришлось опереться о мокрый горячий кафель и даже приложиться щекой к распластанной ладони. Жестяные струи лупили затылок, обжигали кожу под волосами.
Невыносимо воняло тюрьмой.
Держась за стену, Арсений выбрался из душа, вытерся, морщась от отвращения, и напоследок немного полил себя туалетной водой из прохладного и гладкого флакона. Вода называлась «Картье» – серебристые тонкие элегантные буквы по кругу. Он посмотрел на флакон и сунул его в шкафчик. Шкафчик полыхнул ему в лицо отраженным светом, и пришлось зажмуриться, и хорошо, потому что смотреть на себя в зеркало он не мог.
От «Картье» тоже несло тюрьмой.
И в квартире был стойкий запах кутузки, должно быть, из-за одежды, кучей сваленной перед входной дверью. Он вошел в свой дом и первым делом сбросил с себя все, в чем был, включая очки. Теперь, покосившись на зловонную кучу, он трусливо перебежал в спальню, выхватил из гардероба чистые джинсы, напялил их прямо на голое тело и некоторое время думал.
Только один вопрос его занимал – кто? И, пожалуй, еще один – зачем? И он ничего не испытывал, кроме горячего и острого, как давешние водяные струи, бешенства. Еще брезгливость, пожалуй, к самому себе, к своему отвращению и страху.
И все. Больше ничего.
Он сунул ноги в летние кроссовки, валявшиеся на полу под одеждой, дернул створку шкафа, закрывая полки и вешалки, и решительно вышел в холл.
Ему нужна трезвая и холодная голова – собственно, только такая у него и имелась в наличии! – но куча барахла на полу не давала ему покоя.
Запах кутузки приблизился, вполз в голову, занял там много места, освободившегося за три дня бездействия и бешенства, – пожалуй, теперь он точно знает, что именно испытывает дикий зверь, ни за что ни про что посаженный в клетку. Три шага вдоль, два шага поперек, стена, решетка, вонь.
Очки валялись сверху, он подцепил их и кинул в кресло, надевать не стал, а одежду сгреб в кучу – ботинок вывалился, и Арсений осторожно присел, чтобы поднять его. Той рукой, в которой был зажат ботинок, он открыл замок, ногой толкнул тяжелую дверь и вышел на лестничную площадку.
Площадка была чистой и просторной, напротив всего одна квартира, и он даже толком не знал, кто в ней живет. Хорошо бы никто не жил, ничего не видел, ни о чем не спрашивал!..
– Что ты делаешь?!
Голос грянул из пустоты, и он остановился посреди лестничного пролета. Куча барахла мешала ему, кроме того, он был без очков.
– Господи, Арсений, что ты делаешь?!
Ну, конечно. Картина Репина «Не ждали».
– Помоги мне.
Она секунду помедлила, потом подбежала, процокали ее каблучки, и сняла немного барахла сверху кучи. Сняла и оказалась с ним нос к носу.
– Что это такое? Куда ты это тащишь?!
– На весеннюю распродажу, – ответил он любезно. – Иди за мной.
Она послушно потащилась за ним. Она почему-то всегда его слушалась.
Троепольский дошел до первого этажа, до каморки консьержки, и свалил одежду на пол.
Консьержка вытаращила глаза.
– Что это вы, Арсений Михайлович? Никак переезжаете?
– Не дождетесь, – под нос себе пробормотал Арсений Михайлович. Полина расслышала, а консьержка нет.
– Эдита Карловна, это мои… старые вещи. Вы посмотрите, если вам что-то нужно для кого-нибудь, возьмите, а если нет, выбросьте. – И добавил: – Пожалуйста.
Он рос в хорошей семье и вырос вежливым мальчиком.
– Давай. Кидай. – Это уже к Полине.
Она опять секунду помедлила и не кинула.
– А ты карманы в этих… старых вещах проверил?
Про карманы он даже не вспомнил. Эдита Карловна смотрела на них, разинув рот, полный золотых и серебряных зубов. Переводила взгляд с них на барахло и обратно.
Полина стремительно присела – Гуччи в элегантном полосатом пальто завозился и занервничал у нее под мышкой – и стала решительно копаться в одежде Арсения, отыскивая карманы.
Консьержка неожиданно взвизгнула и подскочила так, что чайная ложка звякнула о подстаканник.
– Господи Иисусе, это что у вас?
– Где? А, это моя собака.
– А чего это она такая? Лишайная, что ли?
– Это такая редкая порода. Специальная.
– Без шерсти, что ли?
В одном кармане был бумажник, в другом ключи от машины. Полина достала бумажник и сунула Троепольскому. Он взял, и она продолжила шарить.
Ручка. Сложенный вчетверо листок бумаги. Десять копеек. Кажется, все.
– А телефон? Паспорт?