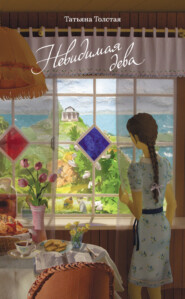По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Войлочный век (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ленинградское мороженое – едва ли не единственная вещь на свете, про которую не говорили: да разве сейчас делают как надо, вот раньше делали, вот до войны, вот до революции… Нет, так никто никогда не говорил, хотя раньше, понятное дело, все было лучше, и солнце и луна, а теперь уж не то. Нет, наше мороженое было лучшее на свете, здесь и сейчас, и никакой балет, никакие белые ночи, которыми так гордились, не шли в счет. Нигде в мире. Только у нас.
Пломбир «Ленинградский» был нехолодным наощупь, вялым. «Женщины обычно предпочитают рожок», – подсказал соблазнитель. Звучало как-то двусмысленно. Старичок рядом со мной зашевелился, покраснел и сказал: «Я тоже, с вашего позволения, предпочту рожок». Мы со старичком купили по рожку и, стесняясь друг друга, быстро съели тающие, капающие трубки. Съели – и съели.
Зря, наверное. Пива надо было взять.
Уничтожение
Был у нас в свое время – глухие совковые годы – знакомый врач, выгнанный из профессии за пьянство. Так что в пору нашего с ним знакомства он торговал на Птичьем рынке рыбками гуппи и песком. Гуппи он выращивал дома, а песок брал в песчаном карьере на местах окраинных строек, – Медведково, Бирюлево, – дома промывал его в семи водах и потом продавал на Птичке стаканами.
Врач-расстрига был мужиком остроумным и веселым, только пил постоянно, и все его рассказы были про то, как пил. А это несколько томов альбомного формата с картинками. Один из рассказов был про то, как он работал наркологом в вытрезвителе.
Менты выслеживали и отлавливали варщика самогона. Вот как сварит новую хорошую порцию (а соседи по коммуналке донесут) – так они его брали под руки и волокли составлять акт в двух экземплярах, немножко помогая идти, но несильно. Вещественное доказательство – бутыль или канистру со свежесваренным – тащили с собой. Нарколог делал экспресс-анализ: да, это оно, Змий Зеленый, крепость такая-то, глядел укоризненно и писал свое веское государственное свидетельство. Тут распишитесь и тут. И еще тут. Самогонщик расписывался.
Потом наступал акт списания, то есть уничтожения. Два милиционера, под наблюдением нарколога, на глазах у горестного самогонщика опрокидывали канистру в раковину. Бль-бль-бль-бль-бль! Хроматическая гамма горького горя! Прекрасный, благоухающий дрожжами, мерцающий вялым перламутром напиток уходил, заворачиваясь по часовой стрелке, в воронку, в канализацию, в черную дыру. Потом выписывали штраф, куда надо ставили печати и отправляли нарушителя с богом – иди, плати и не греши.
Когда за ним закрывалась дверь, – запиралась на замки, закладывалась на засовы: всё, всё, мы закрыты! – из шкафчика под раковиной вытаскивалось заранее припасенное ведро, куда, собственно, слился самогон; младшие чины расстилали газетку, расставляли стаканы и резали хлебушек; кто постарше чином – извлекал из портфеля припасенную рыбку, частик в томате или что сегодня Господь послал; пахло колбасой, хрустели огурчики, жизнь была приветлива, нарядна и нежна.
Душа же поет, когда все и по закону, и с чесночком!
Белый мундир
Мой свекор Валентин Яковлевич Лебедев был артиллеристом. Прошел всю войну, после войны закончил две Академии. В отставку вышел генерал-полковником.
Веселый был, добрый и честный.
Продвигали его по карьерной военной лестнице неохотно. Новое звание давали на несколько лет позже, чем его сверстникам. Во-первых, потому, что в его личном деле было написано: «жена – гречанка». И красным карандашом подчеркнуто. Неча, дескать!
Во-вторых, потому что он не участвовал в сложившейся системе подхалимажа и кумовства. Начальники его крепили свои династии, женили сыновей на соответствующих дочерях начальников других отделов или ведомств, – так сплетался плотный мафиозно-хозяйственный газон; наш же дедушка из принципа никогда ни одной даже открыткой не поздравил своего начальника с днем рождения. Не уважал, вот и считал безнравственным поздравлять, а про то, почему не уважал – не сплетничал. Значит, было за что.
Конечно, его подсиживали; как-то раз он рассказал, смеясь, что на него написали донос: дескать, свою дачу он построил из ворованных материалов. А у него дачи не было! Не знаю уж, почему; там как-то просить надо было, а он просить отказывался. Но доносчики, не представлявшие, как можно жить без дачи, даже не проверили этого, когда сочиняли кляузу.
Очень красивый был, высокий, похожий на итальянца. По-моему, он мундиры не любил, а любил одежду простую и домашнюю: клетчатую рубашку и джинсы. Раз только в год, на 9 мая, надевал парадный белый мундир со всеми орденами – красота нечеловеческая, все махараджи со всеми своими сладкими дамскими брильянтами и бусами погрустнели бы и потускнели, если бы забрели почему-либо в нашу непросторную прихожую. Но он надевал где-то там, в глубине квартиры, в своем кабинете или в спальне, этот белый наряд, и быстро проходил к дверям, и быстро уходил, исчезал, и не хотел сфотографироваться, и не любил наших ахов и восхищенных криков, и лицо у него становилось другое – особое.
В белом мундире он не улыбался.
Он словно бы отделялся от нас, отгораживался этими сверкающими ризами, – особой, жреческой, ритуальной одеждой, надеваемой раз в году и непригодной ни для какого другого употребления, кроме как для этого торжества и сверкания. Он словно бы выходил в другое измерение, – в то, в котором ему и самому было священно и страшно, в то, где все они, большие и малые, великие и безвестные, живые и похороненные, и пропавшие без следа, и взрослые, и пожилые, и мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, мальчики, – все участники великой мистерии Победы, – на один день причислены к олимпийским богам, на один день объявлены бессмертными, на один день вступили в этот белый, слепящий, всех равняющий, огромный и непостижимый свет.
Через несколько часов он возвращался, и мы снова выбегали в прихожую посмотреть, и успевали заметить на нем этот отсвет чего-то огромного, такого, что больше всех нас; только три минуты в году нам и выпадало, – но он быстро скрывался у себя, и сбрасывал там и жреческие ризы, и отрешенность, и выходил через десять минут уже простым и добрым дедушкой Валей, веселым и готовым выпить и закусить, что мы и делали ко взаимному удовольствию, и даже свекровь в этот день не говорила, что водка – вредная, а лучше бы пили лимонад. И он опять рассказывал про какую-то переправу, когда он – двадцати лет ему не было – вплавь перебрался через ночную реку, там где-то, – и командир посмотрел на него и его товарищей, закоченевших от ледяной воды, и налил им водки «Горный дубняк». И он пил в первый раз в жизни, и страшно было пить. И согрелся.
А страшно ли было воевать, он не рассказывал.
А вечером мы набивались в грузовой лифт и ехали, подбирая по дороге других веселых выпивших, на крышу шестнадцатиэтажного дома смотреть салют. Новый был салют, необычный: там вдали, в сторону Арбата если смотреть, в смеркающемся майском небе вспухали сиреневые шары, и в этих шарах вдруг возникало роение, мерцание, сверкание, перебегание серебра; и все, кто смотрел с крыши, гудели: ооооо… а на месте погасшего шара, на пустом, казалось, месте, вдруг вспыхивал новый, тоже сиреневый, и еще, и еще! И зеленый! И по всей Москве слышалось: ооо! ууу!
И дедушка смотрел, и слушал праздничную пальбу, и улыбался, и говорил: «Это тоже наша разработка».
Володя Герасимов
Умер Володя Герасимов, во сне, задохнувшись дымом. Восемьдесят лет ему было.
Последний раз я его, наверно, видела лет тридцать назад.
Мы ходили с ним на экскурсию в Коломну – он зарабатывал тем, что водил людей на питерские экскурсии. Ему все равно было, куда идти, он знал всё. На этот раз пошли в Коломну.
Мама, сестра Катя, сестра Оля, сестра Наташа, еще кто-то, через тридцать лет уже не помнишь лиц, помнишь только промозглую сырость позднего октября, холод сквозь подошвы, эх, надо было сапоги теплые, надо было перчатки. Небо ровно серое, угроза первого снега, но нет, первый снег, как известно, выпадает 7 ноября, чтобы отвратительный день стал еще горше и тоскливей. А сейчас просто простудный, короткий октябрьский день.
У Герасимова лицо темно-желтое, словно загорелое. Но Володя на юг не ездил, это «печеночный загар». Герасимов – алкоголик. Он пьет всегда, пьет с утра понемногу, пьет весь день и никогда не бывает пьяным. «У меня – алкогольная недостаточность», – говорит Володя, останавливаясь у магазина, чтобы взять еще чекушку. Мы терпеливо и скорбно ждем его в сторонке. Вот ведь, так хорошо начали нашу прогулку, а он купил бутылку и пьет из нее – а если он свалится, что мы будем делать?
В скверах, которые мы пересекаем, сторонясь растоптанной, еще жидкой грязи, – уже не лужа, но еще не лед – иногда под ракитами и барбарисами, под голыми их прутьями и ветвями спят пьяницы. На них заскорузлые брюки и страшненькие ботинки, а лиц не видно: укладываясь под кусток, они закрывают лица шапками, так уютнее. Что, если и Герасимов так уляжется?
Но Герасимова алкоголь не берет. Куда-то он не туда идет, алкоголь: Герасимову тепло и хорошо, голова его все такая же ясная, он движется так же ровно и медленно, и так же ровно, спокойно и не повышая голоса рассказывает, рассказывает, рассказывает про все дома, мимо которых мы проходим: тут жил генерал-аншеф такой-то, и было с ним то-то и то-то, а во время революции он бежал, и в его квартире, ставшей коммунальной, поселился Володин приятель – ну, скажем, Петров, и захотел этот Петров наладить и прочистить печку-голландку, сунул руку в дымоход и извлек пачку прекрасно сохранившихся керенок; но мы уже идем мимо следующего дома, и генерал-аншеф перетекает в знаменитого юриста, и Герасимов рассказывает про юриста, и про его квартиру, и про то, как закончилась его блестящая жизнь, а вот в этом доме жила Дельмас, и Блок ждал внизу, когда она спустится; мы жадно смотрим на парадную, загаженную десятилетиями бедности и пролетарского равнодушия. Мы и сами живем в таких парадных, но наши обычные, а эта – таинственная, наши простые, а тут жила Кармен, здесь было «окно, горящее не от одной зари», и сердце захлестывает чужое, давно испарившееся чувство.
И этот мир тебе – лишь красный облик дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!
Каждый рассказ Герасимова – волшебный, каждый эпизод – литературно-историческая миниатюра. Герасимов знает всё. Всё. У него «зеркальная память», энциклопедические знания, умение рассказывать коротко и ёмко. Сергей Довлатов описывает его в своем «Заповеднике» под именем Митрофанова: «Бог одарил его неутолимой жаждой знаний. В нем сочетались безграничная любознательность и феноменальная память. Его ожидала блестящая научная карьера. Митрофанова интересовало все: биология, география, теория поля, чревовещание, филателия, супрематизм, основы дрессировки… Он прочитывал три серьезных книги в день… Триумфально кончил школу, легко поступил на филфак… Этими качествами натура Митрофанова целиком и полностью исчерпывалась. Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания… Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего десять тысяч книг. Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на голову».
Герасимов-Митрофанов – человек-губка, он впитывает всемирные знания низачем, просто так. У него четыре пропуска в Публичную библиотеку, и все поддельные. Ему надо знать, и знания его не переполняют. С ним невозможно играть в викторины, ему нельзя участвовать в телепередаче «Что? Где? Когда?», потому что Герасимов знает и что, и где, и когда. «А что в этом доме, Володя? Почему вы его пропустили?» – «Ай, там ничего интересного. Построен в таком-то году, владельцем был такой-то, после 17-го года на втором этаже располагалось то-то, свернем вот сюда…»
Холодно, лицо мерзнет. Ветер несильный, но противный, скоро сумерки. Герасимов останавливается на углу, деликатно пристраивается под сенью водосточной трубы, достает свою чекушку, выпивает. Нам – маме, сестре Кате, сестре Оле, сестре Наташе, мне и еще кому-то, чьи лица стерты временем, тоже хочется выпить, но это как-то неудобно, прямо на улице, это как-то неправильно, да и закусить ведь нечем? Сестра Катя узнает в прохожем какого-то своего знакомого, кидается к нему: давно не видела! Они болтают, Герасимов деликатно пережидает. Нам перед Володей неудобно, мы говорим: она сейчас, она быстро. Старый знакомый, а она ведь в Москве живет, не в Питере…
«Да, это Митя Квасов, сын Раисы Львовны Берг, – ровно и неспешно, словно читая по книге, говорит Герасимов. – Раиса Львовна в таком-то году…»
Нет такого на свете, чего бы не знал Володя Герасимов! Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый. Античность? – легко. Год за годом, человек за человеком, лицо за лицом, – время раскрывается как коробочка, как сложная конструкция из вееров и ставен, как бесконечная анфилада нескончаемых дверей. Мы пригвождены и заколдованы, вот только ноги, кажется, отвалятся от холода. Темно. Мы устали. Только Герасимов ровно бодр, невидимо пьян, любезен, неутомим, и еще немного пожелтел. Мы бредем по набережной Фонтанки к Герасимову домой, где нас ждет, за накрытым столом, терпеливая Володина жена.
Герасимов живет в квартире, когда-то принадлежавшей барону Корфу. Теперь это коммуналка, из которой почти все уже выехали, очереди ждет и Герасимов. Большая, темная, странная, с толстенными стенами. Снаряд такие стены не пробьет – он и не пробил, когда тут бомбили. По мере того, как выезжают другие жильцы и освобождаются их комнаты, Герасимов забирается в их брошенные комнаты и простукивает стены, он уверен, что найдет клад, он уверен, что должна быть потайная комната, чулан ли какой или подсобка, или просто ниша; вот недавно в Питере нашли целую комнату, замурованную сразу после революции, а в ней и одежда, и еда – шоколад и шпроты, и театральные программки. Должен быть живой и тайный ход в прошлое.
На столе – горячая вареная картошка с укропом, миска соленых груздей, сметана, огурцы и новая бутылка водки – теперь и мы выпьем, как люди, тем более, что и мы захватили поллитру с собой, таскали ее по холоду всю дорогу. Мы веселимся, радуемся, чокаемся, ахаем – какая квартира и как тут жил Корф, восхищаемся и пьем, и все еще живы: и мама, и сестра Катя, и сестра Оля, и сестра Наташа.
Желтые обои, неяркий свет, смех и табачный дым. Дым, дым. И все живые. Пусть так все и останется, пусть вечно так и будет. Там и тогда.
Смутное время
Частная годовщина
Человеческая память на удивление коротка, плохое быстро забывается, «у каждой эпохи свои подрастают леса», и тем не менее: никаких нет оснований взять да и не отметить юбилей, пусть даже и некруглый, а просто годовщину, – чего-нибудь такого незначительного, быстро миновавшего, а все же бывшего ведь, существовавшего когда-то, казавшегося значительным и тревожным. Например, шестую годовщину голодной зимы, пустого декабря 1991 года.
В декабре 1991 года, помню, мучительно хотелось есть. Состояние для столичных жителей непривычное, для ленинградцев отозвавшееся блокадными воспоминаниями. Все как всегда – огни и снег, под ногами скрипит; и новогодние елки – пожалте, на здоровье, и телевидение еще исполнено остроумия, и смелости, и даже душевного человеческого трепета, – еще не вылупился из коммерческого яйца Лев Новоженов со товарищи, еще не приучил толпу наслаждаться изысканным остроумием, с которым презентуются раздавленные и оплеванные, униженные и оскорбленные. Все еще как бы гуманно, – но есть уже нечего. В ларьках – пластмассовые изделия в изобилии, мужские вибраторы, кушаки и сумочки, оранжерейные или же южные – неизвестно – цветы, шнурки почему-то, даже финский стиральный порошок – подумать только, – но не порошком единым; а вот есть очень-очень хочется. И, странное дело, не два или там три раза в день, а постоянно, раз четырнадцать. И даже те, у кого, по слову известной стихотворной шарады:
Мой ПЕРВЫЙ слог швартует корабли,
ВТОРОЙ – изобразил собор Руанский,
А в ЦЕЛОМ – у кого одни рубли,
А у кого – доллар американский, –
те, у кого в портмоне доллар, – тоже хотят есть, ибо «березки» заколочены сырой березовой планкой крест-накрест, и ничего органического не купишь ни на иены, ни на воны. Падал в декабре 1991-го густой снег, засыпая, заметая все тропки к бывшим магазинам, словно они и не нужны больше, – живите так как-нибудь, святым духом. Мои родственники решили надышаться перед голодной смертью свежим снежным воздухом в Доме Писателей, не в том, позднее сгоревшем, на Неве, где в ресторане некогда подавали котлету «Творческая», а в сельском, уютном, на Финском заливе, в Комарове. Говорили, что там кормят три раза в день, это решило дело. И, одев малых детей в ушанки, мы выехали в Комарово в ледяных поездах, где на окнах, украшенных пальмовой изморозью, оптимистическая молодежь пригородов процарапала простые наименования органов размножения.
Отпразднуем, право, годовщину голодного года! Никто не умер, насколько я знаю, – то есть никто из моих знакомых не умер. Были голодные обмороки, но больше от гордости и вегето-сосудистой дистонии. Хорошо там было, в Комарове, топили в Доме так, что вздувались полы в вонючих общественных ванных, коробило паркет в общественных коридорах, по которым тоже гулял теплый сортирно-хлорный ветерок, пересыхали алоэ-каланхоэ в рябоватых кастрюлях на подоконниках, где заоконный пейзаж с падающим снегом дрожал от волн теплого воздуха. Несколько писателей бродили, шаркая привезенными тапками, по горячим зловонным коридорам, делились творческими планами. В столовой, о которой думалось постоянно, как солдату – известно о чем, на обед подавали ложку сахарного песку на писателя, пол-ложки – на членов семьи. Буфетчицы у писателей были злые, и на того, кто спрашивал, нельзя ли добавки, – ибо ветеран, и жена парализована, и малые детушки, – на того кричали и стыдили.
Строго, сдержанно выходила писательская семья за стол, расправляла салфетки на коленях, локти держала ниже уровня стола, медленно, ложкой ела куб холодной манной каши, облитый калорийным сгущенным молоком из готовой отпасть Риги. Иногда в кубе случался изюм, тогда соседи деликатно опускали глаза. Тарелки оставляли чистыми, словно прочесанными частым гребнем, но эксцессов не было: никто ничего не вылизывал, не было ни криков, ни скандалов, дети не капризничали, сидели торжественно, как на поминках. В углу, за дальним столом, сидели очень бледные, как мука, отец с четырнадцатилетним сыном, в одинаковых черных водолазках. Иногда они одновременно и внезапно поднимали глаза и быстро, остро взглядывали в зал, – и снова опускали черные, тусклые взоры. Непонятно было, в каком литературном жанре они работают.