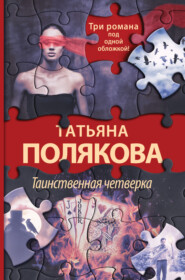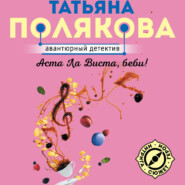По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Весенняя коллекция детектива
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Рядом с балкой, – сказал Добровольский, ужасаясь тому, что она делает. – Там должен быть стык. Попробуй постучать.
Олимпиада попробовала. Получилось гулко, как в дно бочки, и проклятый стул зашатался, заходил ходуном, и она присела, как Василий, бывший Барсик, когда слышал на улице, как ревут машины.
Добровольский держал неверные, хлипкие пластмассовые ножки изо всех сил.
– Найди стык. Попробуй его продолбить или отогнуть лист. Или, может быть, там есть щель.
Фонарь на выступе стены мигнул. В нем были мощные батарейки, но все же не вечные. Минут через пятнадцать он погаснет, и они останутся в черноте – Олимпиада на хлипком сооружении из столов и стульев и Добровольский внизу, вцепившийся в предательскую пластмассу.
И еще существовала вероятность, что тот, кто запер их здесь, вернется. Этим соображением Павел Петрович с Олимпиадой Владимировной не делился. У убийцы мог быть припрятан пистолет, а почему нет? И он мог вернуться. Чтобы убить их и оставить тут – в этом случае их точно долго не найдут, пока запах станет невыносимым. Запах разлагающегося мертвого тела.
Двух. Двух мертвых тел.
У Добровольского не было с собой телефона, не то что пистолета, зачем ему пистолет, когда он скучный кабинетный чиновник, гораздо больше понимающий в финансовых махинациях, чем в каком бы то ни было оружии?!
– Нет тут никакой щели, – пропыхтела Олимпиада. Она старалась не обращать внимания на то, что от духоты и напряжения у нее все сильнее кружится голова и так хочется на воздух, чтобы его можно было пить, как воду из чайника!
Испарина проступила на лбу. Она размахнулась и опять стукнула. Кажется, старая жесть чуть-чуть поддалась, но нужно бить гораздо сильнее, чем она тюкала, согнувшись, а получалось только тюкать!
Крыша громыхала, и Олимпиада надеялась, что Люська услышит и прибежит – куда, зачем, об этом она не думала. Прибежит, и все. Вот-вот отогнется железка, и прямо перед Олимпиадой возникнет удивленная Люсиндина физиономия, и она спросит своим обычным голосом:
– Ты че, Лип? Как ты сюда забралась?!
Рука затекла, и она перехватила топор. Теперь удары стали совсем неловкие, и половина их не попадала на тот самый стык, по которому велел стучать Добровольский.
– Постарайся в стык! – сказал он снизу.
– Лезь сам и старайся, – огрызнулась она.
Что-то с крыши сыпалось в глаза, и она мотала головой. Капли пота катились со лба, и она еще успевала думать, что хорошо бы они не попали на Добровольского, а то неприлично.
Фонарь снова мигнул, предупреждая.
– Я больше не могу, – сказала Олимпиада. Дышать становилось все труднее, как будто она поднималась в гору и вошла в зону кислородного голодания.
Рука против ее воли перехватила топор и продолжала стучать. Бум, бум, бум, звуки жестяные, мерзкие. Топор долбит не крышу, а ее черепную коробку, попадает в самую серединку, в мозг.
Бум, буум, буум!
Олимпиаду повело в сторону, она сильно наклонилась, кровь прилила к голове, и потемнело в глазах. Или это фонарь погас?!
– Липа, слезай!! Хватит!
Света не было. Света не было нигде, ни внутри головы, ни снаружи.
Она судорожно выпрямилась и стала колотить наугад, хотя рука уже почти не держала топор. И когда она поняла, что больше не может, не может, что сейчас упадет, прямо ей в глаза вдруг ударил воздух, холодный и острый, как тот, самый первый луч фонаря, и следующий удар топора пришелся в пустоту, и крохотная синяя точечка заглянула ей в лицо.
– Липа!!
Двумя руками, ни о чем не думая, она стала крушить и громить жесть, которая поддавалась, на этот раз точно поддавалась, и Олимпиада изо всех сил отворачивала прорубленный край, и он загибался, и вторая точечка приветливо выглянула из-за края, словно Люсинда, которая должна была спросить: «Ну как ты тут оказалась?!»
Олимпиада плохо соображала, но воздуха стало много, и он был свежий, легкий, и им хорошо дышалось, и это был путь к спасению!
– Липа!
Она остановилась и выронила топор. Он сильно загрохотал где-то внизу.
Тут Олимпиада решила, что топор попал Добровольскому в голову и она его убила.
– Ты… жив?
– Жив. Попробуй вылезти.
– Как?!
– Возьмись руками за край и подтянись. Сможешь?
– Я… не знаю.
– Попробуй.
Она попробовала. Распрямилась на шатком стульчике, и голова и плечи оказались снаружи, но руки соскальзывали, край был неровный, и, кажется, она резала им кожу. Вылезти никак не получалось.
– Давай, – велел Добровольский из преисподней, – давай, Липочка! Немного осталось! Ну!
И когда он сказал «ну!», она вдохнула, выдохнула, еще раз рывком подтянулась и перевалилась на крышу. Крыша была ледяная и скользкая, должно быть, очень опасная, но такая замечательная, такая надежная, такая твердая – никакой шатающейся хлипкой пластмассы под ногами!..
Олимпиада немного перевела дух, свесила голову в черную дыру, из которой несло теплом, и сказала:
– Я здесь. На крыше. Я тебя жду.
Ответа не последовало.
Раздался какой-то отдаленный шум, дребезг и скрип – слон ломился через посудную лавку.
Лежа на животе, Олимпиада посмотрела на небо.
Оно было высоким, подсвеченным снизу электрическими всполохами большого города, и облака летели далеко-далеко, почти прозрачные и, кажется, очень холодные. Голубые звезды мигали над задранным неровным листом, который Олимпиада отогнула своим топором. Если бы она знала, что это такой новый, широкий, плотный лист, она никогда в жизни его бы не отогнула.
Хорошо, что не знала.
Тут вдруг из дыры показались голова и плечи Добровольского.
– Это я, – сказала голова. – Отползи подальше.
На локтях и коленях Олимпиада, как жук-навозник с обложки последней книжки Михаила Морокина, подалась назад. Из дыры вылетела сумочка, похожая на косметичку. Добровольский на миг скрылся из виду, рывком подтянулся, перевалился через край, и вот он уже рядом с Олимпиадой. Внизу, в черной дыре, со звуком горного обвала рухнула пирамида, которую они соорудили, гул прошел по всему дому.
Добровольский перевернулся на спину и некоторое время подышал открытым ртом. Грудь у него ходила ходуном.
Олимпиада попробовала. Получилось гулко, как в дно бочки, и проклятый стул зашатался, заходил ходуном, и она присела, как Василий, бывший Барсик, когда слышал на улице, как ревут машины.
Добровольский держал неверные, хлипкие пластмассовые ножки изо всех сил.
– Найди стык. Попробуй его продолбить или отогнуть лист. Или, может быть, там есть щель.
Фонарь на выступе стены мигнул. В нем были мощные батарейки, но все же не вечные. Минут через пятнадцать он погаснет, и они останутся в черноте – Олимпиада на хлипком сооружении из столов и стульев и Добровольский внизу, вцепившийся в предательскую пластмассу.
И еще существовала вероятность, что тот, кто запер их здесь, вернется. Этим соображением Павел Петрович с Олимпиадой Владимировной не делился. У убийцы мог быть припрятан пистолет, а почему нет? И он мог вернуться. Чтобы убить их и оставить тут – в этом случае их точно долго не найдут, пока запах станет невыносимым. Запах разлагающегося мертвого тела.
Двух. Двух мертвых тел.
У Добровольского не было с собой телефона, не то что пистолета, зачем ему пистолет, когда он скучный кабинетный чиновник, гораздо больше понимающий в финансовых махинациях, чем в каком бы то ни было оружии?!
– Нет тут никакой щели, – пропыхтела Олимпиада. Она старалась не обращать внимания на то, что от духоты и напряжения у нее все сильнее кружится голова и так хочется на воздух, чтобы его можно было пить, как воду из чайника!
Испарина проступила на лбу. Она размахнулась и опять стукнула. Кажется, старая жесть чуть-чуть поддалась, но нужно бить гораздо сильнее, чем она тюкала, согнувшись, а получалось только тюкать!
Крыша громыхала, и Олимпиада надеялась, что Люська услышит и прибежит – куда, зачем, об этом она не думала. Прибежит, и все. Вот-вот отогнется железка, и прямо перед Олимпиадой возникнет удивленная Люсиндина физиономия, и она спросит своим обычным голосом:
– Ты че, Лип? Как ты сюда забралась?!
Рука затекла, и она перехватила топор. Теперь удары стали совсем неловкие, и половина их не попадала на тот самый стык, по которому велел стучать Добровольский.
– Постарайся в стык! – сказал он снизу.
– Лезь сам и старайся, – огрызнулась она.
Что-то с крыши сыпалось в глаза, и она мотала головой. Капли пота катились со лба, и она еще успевала думать, что хорошо бы они не попали на Добровольского, а то неприлично.
Фонарь снова мигнул, предупреждая.
– Я больше не могу, – сказала Олимпиада. Дышать становилось все труднее, как будто она поднималась в гору и вошла в зону кислородного голодания.
Рука против ее воли перехватила топор и продолжала стучать. Бум, бум, бум, звуки жестяные, мерзкие. Топор долбит не крышу, а ее черепную коробку, попадает в самую серединку, в мозг.
Бум, буум, буум!
Олимпиаду повело в сторону, она сильно наклонилась, кровь прилила к голове, и потемнело в глазах. Или это фонарь погас?!
– Липа, слезай!! Хватит!
Света не было. Света не было нигде, ни внутри головы, ни снаружи.
Она судорожно выпрямилась и стала колотить наугад, хотя рука уже почти не держала топор. И когда она поняла, что больше не может, не может, что сейчас упадет, прямо ей в глаза вдруг ударил воздух, холодный и острый, как тот, самый первый луч фонаря, и следующий удар топора пришелся в пустоту, и крохотная синяя точечка заглянула ей в лицо.
– Липа!!
Двумя руками, ни о чем не думая, она стала крушить и громить жесть, которая поддавалась, на этот раз точно поддавалась, и Олимпиада изо всех сил отворачивала прорубленный край, и он загибался, и вторая точечка приветливо выглянула из-за края, словно Люсинда, которая должна была спросить: «Ну как ты тут оказалась?!»
Олимпиада плохо соображала, но воздуха стало много, и он был свежий, легкий, и им хорошо дышалось, и это был путь к спасению!
– Липа!
Она остановилась и выронила топор. Он сильно загрохотал где-то внизу.
Тут Олимпиада решила, что топор попал Добровольскому в голову и она его убила.
– Ты… жив?
– Жив. Попробуй вылезти.
– Как?!
– Возьмись руками за край и подтянись. Сможешь?
– Я… не знаю.
– Попробуй.
Она попробовала. Распрямилась на шатком стульчике, и голова и плечи оказались снаружи, но руки соскальзывали, край был неровный, и, кажется, она резала им кожу. Вылезти никак не получалось.
– Давай, – велел Добровольский из преисподней, – давай, Липочка! Немного осталось! Ну!
И когда он сказал «ну!», она вдохнула, выдохнула, еще раз рывком подтянулась и перевалилась на крышу. Крыша была ледяная и скользкая, должно быть, очень опасная, но такая замечательная, такая надежная, такая твердая – никакой шатающейся хлипкой пластмассы под ногами!..
Олимпиада немного перевела дух, свесила голову в черную дыру, из которой несло теплом, и сказала:
– Я здесь. На крыше. Я тебя жду.
Ответа не последовало.
Раздался какой-то отдаленный шум, дребезг и скрип – слон ломился через посудную лавку.
Лежа на животе, Олимпиада посмотрела на небо.
Оно было высоким, подсвеченным снизу электрическими всполохами большого города, и облака летели далеко-далеко, почти прозрачные и, кажется, очень холодные. Голубые звезды мигали над задранным неровным листом, который Олимпиада отогнула своим топором. Если бы она знала, что это такой новый, широкий, плотный лист, она никогда в жизни его бы не отогнула.
Хорошо, что не знала.
Тут вдруг из дыры показались голова и плечи Добровольского.
– Это я, – сказала голова. – Отползи подальше.
На локтях и коленях Олимпиада, как жук-навозник с обложки последней книжки Михаила Морокина, подалась назад. Из дыры вылетела сумочка, похожая на косметичку. Добровольский на миг скрылся из виду, рывком подтянулся, перевалился через край, и вот он уже рядом с Олимпиадой. Внизу, в черной дыре, со звуком горного обвала рухнула пирамида, которую они соорудили, гул прошел по всему дому.
Добровольский перевернулся на спину и некоторое время подышал открытым ртом. Грудь у него ходила ходуном.