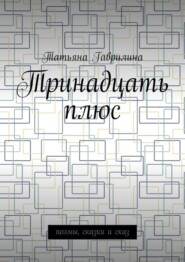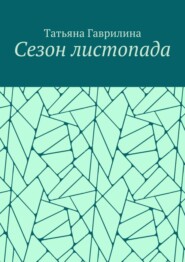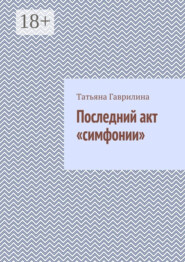По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На все Твоя воля. Исторические новеллы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Часто бывая в доме молдавского господаря и охотно демонстрируя его домочадцам и гостям свои обширные познания в различных областях знаний, Схария просто не мог ни впечатлить юную, очаровательную и жадную до всего необычного и нового дочь хозяина – Елену. Устоять и не восхититься чужестранцем, а, более всего, всем тем таинственным и запретным, о чем Схария умело и с большим изяществом говорил, было по силам разве что только безголовому истукану.
В изобретенной Схарией теории гармонично переплетались как оккультные, так и эзотерические науки, успешно сочетающие в себе мистику, многие элементы язычества, астрологию, чародейство, чернокнижье и гадание по звездам.
Поманили и увлекли за собой лукавые речи Схарии не только наивную и доверчивую княжну, но и умудренного жизненным опытом московского князя Ивана III, и его близких людей, из которых посольский дьяк Федор Курицын даже возглавил тайный кружок, исповедующий лжеучение Схарии.
Однако, до той поры пока, так называемые, вероотступники не затрагивали в своих увлечениях канонических основ христианства, Церковь поглядывала на их забавы сквозь пальцы. Но стоило только еретикам покуситься на имущественные права святых отцов, как те тут же ощерились и объявили им войну не на жизнь, а на смерть.
По сути дела, проповедь Нила Сорского, положив начало серьезному и глубокому конфликту между «нестяжателями» и «иосифлянами», предопределила на многие годы вперед целевую программу Царства по секуляризации церковной собственности.
Идея об изъятии у Церкви земельного и иного имущественного владения в пользу государства показалась Ивану III настолько привлекательной, что он ни под каким предлогом не желал от нее отказываться, а, значит, и не спешил выдавать своих сторонников «иосифлянам».
***
Борьба с еретиками, которая завершилась церковным собором, осудившим еретиков и саму ересь, выявила острые противоречия внутри политических группировок, которые сформировались вокруг великокняжеского престола.
С одной стороны это было окружение вдовой княгини Елены Стефановны, которая тяготела к расширению связей с Центральной Европой и стояла на позициях укрепления княжеской власти, а с другой стороны – окружение Софьи Фоминичны, которая, находясь под влиянием Рима, проявляла интерес к католической Германии и Литве, всячески способствуя усилению авторитета Церкви.
Затишье в борьбе с ересью наступило в сентябре 1494 года. Именно в это время князь, дабы пресечь разгоревшуюся кампанию по отлову и преследованию еретиков, отправляет думного дьяка Федора Курицына – руководителя московского кружка еретиков в Литву с поручением сосватать старшую княжескую дочь Елену Ивановну за Великого литовского князя Александра.
Подготовка княжеского двора к свадьбе, поумерив полемический пыл ортодоксов, позволила Ивану III немного передохнуть и переключиться на решение насущных проблем. Желая выказать себя перед будущим зятем примерным семьянином и, что более важно, христианином, исповедующим греческую – православную веру, князь восстановил прерванные после смерти Ивана Молодого супружеские отношения с женой.
В общем-то, сам по себе женский вопрос: «Какую из двух женщин предпочесть?» волновал Ивана III менее всего. В конце концов, он мог себе позволить и лишнее! Разногласия между супругами развивались не на почве ревности, как это можно было бы предположить, а на различиях во взглядах на многие государственные вопросы и в том числе на проводимую великим князем политику. И если Елена Волошанка, оставаясь правой рукой тестя, поддерживала его курс на усиление самодержавной власти Царства, то Софья, воспитанница папского двора, защищала автократию Церкви, выступая, в этом смысле, на стороне «иосифлян».
А между тем предстоящий брак великокняжеской дочери Елены и Александра таил в себе немало сложностей. По условиям брачного контракта, князь Александр, исповедующий католическую веру, должен был отказаться от любого противодействия супруге и не принуждать ее к измене православного закона. Для России этот пункт договора был очень важным, так как, превращая Елену Ивановну в своеобразный центр православия за границей, он еще и способствовал, по задумке Ивана III, объединению вокруг нее всех православных верующих Литвы. Конфликт между официальной католической церковью и самостийной православной диаспорой, который неизбежно возник бы по целому ряду причин, был нужен России как повод для развязывания новой войны за господство над Балтикой.
***
Однако, за долгим сватовством, трудными переговорами и звоном свадебных колоколов Иван III проглядел главное – разлад в собственном доме. Улучив удобный момент, Софья вместе с сыном Василием, опираясь на преданных им людей, подготовили государственный заговор, направленный как против внука-Дмитрия, так и против самого князя. Суть заговора сводилась к следующему: пока Василий, прихватив с собой великокняжескую казну, хранящуюся в Вологде и Кириллове, будет скрываться на Белоозере, Софья, отравив Дмитрия и используя захват казны, как козырь, продиктует супругу свои требования.
Правда, и план, и сама мысль о заговоре возникли в хитромудрой голове Софьи Фоминичны не вдруг, а под давлением сложных жизненных обстоятельств. Ведь, как ни старался князь сохранить в глубокой тайне от жены свое намерение венчать еще не достигшего совершеннолетия внука Дмитрия шапкой Мономаха, ей о том стало известно. В отчаянии Софья кинулась за помощью к колдуньям и знахаркам.
В декабре 1497 года злой умысел Софьи был раскрыт, и она вместе с княжичем Василием снова оказалась в опале. Заключив супругу и сына под домашний арест, Иван III не пощадил никого из ее сообщников. Особую немилость он проявил к ворожеям, тем, что приготовили для его внука ядовитое зелье. Обыскав лихих баб, он приказал утопить их в Москва-реке.
Продемонстрировав еще раз и Боярской думе, и Церкви свое твердое намерение продолжать политику укрепления великокняжеской власти и государственного управления, Иван III 4 февраля 1498 года торжественно венчал в Успенском соборе Кремля своего внука Дмитрия на царство. Церемония венчания молодого пятнадцатилетнего князя во всех подробностях повторяла обряд коронации византийских императоров.
Пышные праздничные торжества, устроенные Иваном III, привлекли в Москву многих важных особ как из числа духовенства, так и светских лиц – бояр, князей, дворян, зарубежных гостей и послов, а более всего зевак – простого московского люда.
Да, и посмотреть было на что!
В истории Российского государства венчание самодержца на царствование так широко и шумно отмечалось впервые! И, быть может, не случайно именно Дмитрий – внук двух великих современников, наследник двух великих дедов, которые вошли в историю под именами Стефана III Великого и Ивана III Великого, положил начало новой традиции, которой будут придерживаться в будущем все последующие правители России.
Казалось, что с коронацией Дмитрия, долгий поединок двух великих женщин завершен, и лавры победительницы справедливо достались молодой и красивой Елене Волошанке.
Внешне все именно так и выглядело.
Но уже в следующем 1499 году многое в их позициях переменилось.
***
Немало усилий прилагал Иван III к тому, чтобы скрыть от своего литовского зятя истинный характер отношений, которые сложились на тот момент между членами его семьи. Но прошло время и правда, не без участия Софьи, открылась. Принимая во внимание то обстоятельство, что великая княгиня Софья и ее сын Василий отстранены от участия в государственных делах, а сам великий князь, уклоняясь от фундаментальных основ православия, замешан в какой-то грязной истории с еретиками, Александр Каземирович посчитал себя вправе усилить давление на жену и принудить ее к принятию католичества.
Подобный поворот событий не устраивал Ивана III.
Загнанный в угол прозвучавшими в его адрес обличениями со стороны Александра, Иван III вынужден был на них правильно отреагировать. Выпустив Софью и Василия из-под домашнего ареста, князь, повинуясь эмоциональному порыву, отдал распоряжение о разгоне тайного общества. Более того, повинуясь желанию князя, в Москве были устроены показательные казни самых активных его участников, в число которых попал и Федор Курицын. Но в глубине души Иван III еще надеялся, что ему удастся избежать радикальных политических перемен и кадровых перестановок.
Совсем иное мнение на этот счет было у Софьи Фоминичны. Выйдя на свободу и правильно оценив расстановку сил в русско-литовских отношениях, Софья с прежней энергией принялась за мужа. Внушая Ивану изо дня в день одну и ту же настойчивую мысль о том, что интересы царства требуют того, чтобы их сын Василий занял в государстве приличествующее ему высокое положение, она запросила для него полцарства.
Имелся у Софьи в запасе и еще один не менее убедительный довод. Знала она, что согласно державной традиции, великий князь, передавая престол наследнику, должен был позаботиться и о других сыновьях.
Как?
Отписать им в управление удельные княжества. А коли так, то почему бы не отдать Василию в удел города Псков и Новгород со всеми прилежащими к ним землями, тем более, теперь, когда репутация князя подмочена и нуждается в реабилитации.
Князь понимал, что Софья права, но его мучил вопрос, как на это посмотрят бояре. Ведь в своей речи во время коронации внука он сам провозгласил, что «благословляет при себе и после себя великим княжеством Владимирским, Московским, Новгородским и Тверским своего внука Дмитрия», которого ему Бог дал вместо сына. Нет, не мог, не имел права Иван III Васильевич отказаться от своего княжеского слова и отнять у наследника титул великого князя Новгородского. На соблюдении правовой этики настаивало и руководство Боярской думы. Понимая, что миром вопрос о разделе государства не решить, князь приказал арестовать главных своих противников – министра иностранных дел князя Патрикеева, двух его сыновей и зятя.
Арест таких важных вельмож, как бояре Патрикеевы, напугал и заставил остальных членов Боярской думы быть посговорчивей.
Весной 1500 года Иван III отдал Василию в удел и Псков, и Новгород. Правда, что касается Пскова, то права Василия на этот город так и остались на бумаге. Решение Москвы о разделе государства на уделы и о передаче Пскова Василию, взбунтовало горожан, которые уже успели принести присягу на верность Дмитрию. Город отправил в Москву послов, чтобы они, призвав великого князя «соблюдать свою отчизну в старине», объяснили ему и то, что посадники и вече признают только одного государя, того, который сидит на московском троне.
Принимая во внимание то, что Псков является важной стратегической областью и стоит на стыке границ двух государств Ливонии и Литвы, Иван III поостерегся накануне подготавливаемой им войны осложнять с послами отношения.
***
Перестановка политических сил, которую Иван III произвел при дворе, давала непонятливым понять, что западный вектор во внешней политике князя становится преобладающим и что политико-династический брак, заключенный между Москвой и Литвой, целью которого являлось сохранение мира между двумя странами, не выполнил своей задачи. И хоть в грамотах великого князя, мобилизующих мужское население державы на войну, все еще упоминалось имя Дмитрия, но это уже почти ничего не значило. Время триумфа Елены Волошанки неуклонно катилось к исходу и, отправляясь на войну со своим зятем Александром, Иван III взял с собой не внука, а старшего сына Василия. Именно он должен был продемонстрировать православному населению Литвы, что все слухи о разногласиях в княжеской семье ложны и что Москва никогда не уклонялась от веры своих отцов и дедов.
В этом аспекте всякое упоминание о Елене Волошанке и Дмитрии внуке, а тем более их присутствие во дворце компрометировали князя и уличали в лицемерии. Каждый понимал, что в случае победы великий московский князь Иван III Васильевич должен будет предстать перед гонимым и униженным православным населением Литвы не только освободителем и защитником, но и примерным православным христианином, мужем и отцом!
В ноябре 1501 года русские войска одержали первую крупную победу под Мстиславлем, а на рубеже 1501—1502 гг. начали успешные военные наступления на территории Ливонии. Демонстрируя Западному миру силу и мощь русской армии, Иван III, опасаясь за свой авторитет и заботясь о том, чтобы сведения о его личной жизни не просочились через границу, приказал 11 апреля 1502 года взять Елену Волошанку и ее сына Дмитрия под стражу.
А еще через три дня, благословив Василия на «великое княжество Владимирское и Московское», Иван III провозгласил его самодержцем всея Руси.
Однако, наслаждаться победой над своей соперницей Софье посчастливилось недолго, она умерла ровно через год в апреле 1503 года. А в 1505 году не стало и Ивана III. Но перед своей кончиной он не только успел попросить у своей невестки и внука прощения, но и выпустить их из заточения на свободу. Правда, уже на следующий день после погребения деда, Дмитрий был по приказу Василия арестован и заключен в темницу, теперь уже до конца своих дней в 1509 году.
Но, должно быть, долгая и напряженная война за власть, а если смотреть глубже, то и за будущее России, обескровила всех ее участников.
Елена Волошанка покинула этот мир в 1505 году.
Потомки Софьи Палеолог постарались и сделали все для того, чтобы ее имя, канув в глубины истории, было надолго, а то и навсегда забыто.
Но, принимая во внимание все то немногое, что скоротечное время бережно сохранило для нас, можно с полной уверенностью заявить, что Елена Волошанка была женщиной исключительной и, находясь в самом центре политической, культурной и интеллектуальной жизни Древней Руси, занимала в ней не последнее место.
И даже тот факт, что как только Василий III Иванович, узурпировав престол и избавившись от соперника, привлек на свою сторону в 1510 году всех тех, кто уцелел от партии Елены – сторонницы укрепления самодержавия свидетельствует в ее пользу.
По сути дела, Елена Волошанка, вдохновленная духовным подвигом и проповедью великого подвижника Нила Сорского о «нестяжательстве», превратила его идеи в прогрессивную государственную программу.
Вот только претворить эту программу в жизнь ей так и не удалось!
КУЧЕНЕЙ ТЕМРЮКОВНА