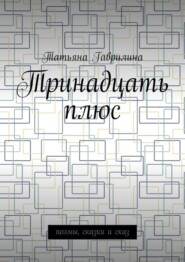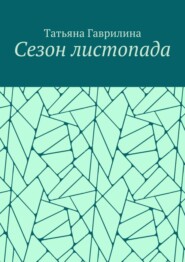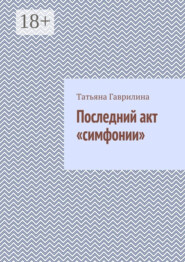По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На все Твоя воля. Исторические новеллы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К сожалению, Софья Фоминична, в отличие от своей соперницы, не могла похвастаться ни статной фигурой, ни особыми внешними данными. Среднего роста, тучная, с редкими усиками над верхней губой она замечала не только ехидные усмешки в глазах ненавидящих ее царедворцев, но и улавливала обращенные в ее адрес их едкие и произносимые в полголоса колкости.
Зато в хитростях и коварстве Софья не знала себе равных. Как верно заметил один из иностранных гостей, удостоившийся чести общаться с великой княгиней, она не только «имела самый тонкий ум, но и самую широкую талию в Европе».
Не трудно себе представить, какая из этих двух важных и властных особ пользовалась большим доверием и симпатиями двора. По-особому тепло относился к своей невестке и Иван III, демонстрируя кстати и не кстати свою отеческую заботу о ней. Но проницательная Софья сердцем чувствовала, что князь лукавит и что только семейное родство мешает ему обнаружить истинную природу своей душевной привязанности к снохе.
***
Но, как бы там ни было, а в 1485 году гнетущая обстановка в великокняжеском доме разрядилась сама собой, чему предшествовали некие неожиданные события, произошедшие в Тверском княжестве.
В средние века Тверь, как и Москва, де-юре считалась отдельным и самостоятельным княжеством, но де-факто была связана с Москвой целым рядом долговых обязательств. Пытаясь вырваться из-под жесткого контроля Москвы, великий тверской князь Михаил Борисович, который, кстати, приходился Ивану Молодому родным дядей по матери, предусмотрительно списавшись с польским королем Казимиром IV, сбежал в Литву. Но сбежал не налегке и не на скорую руку, а прихватил с собой казну.
Нанеся тверичам несколько сокрушительных поражений и присоединив тверские земли к Москве, Иван III поручил заботу о них своему старшему сыну Ивану, который с той поры стал величаться князем Тверским. С приходом Ивана Молодого на княжение, в Твери начала чеканиться монета, на которой князь изображался героем, отрубающим гремучей змее хвост. В традициях древней Руси, такая символика трактовалась не иначе, как победа племянника над дядей, допустившим вероломное предательство в отношении Москвы.
Отъезд молодых в Тверь счастливо отразился на судьбе Софьи.
Будучи полноправной хозяйкой в семье, она умалила гневное сердце супруга и вскоре между ним воцарился мир. Но Софья не была бы коварной «византийкой», если бы отказалась от своих планов на будущее. Лелея честолюбивые мечты о престоле для сына, она верила, что сумеет поколебать неуступчивость мужа и склонить его на сторону Василия.
Успешно складывались дела и в семье Ивана Молодого. Выйдя из-под опеки грозного родителя, молодожены впервые за долгое время почувствовали себя по-настоящему свободными. Неплохо осведомленная во внешнеполитических делах Елена, в попытке установить связи с сопредельными государствами, даже позволила себе завести свой собственный двор, подражая в этом свекрови. Так истории доподлинно известно, что княжна не только вела активную переписку с польским королем Казимиром IV, но и предпринимала активные попытки наладить контакты с Сербией.
B это еще не все!
Существуют убедительные доказательства того, что Елена, в отличие от униатки Софьи, выросшей при папском дворе, немало времени уделяла и вопросам церковного домостроительства, связанными с борьбой русской православной церкви за автокефалию.
***
Но прошло пять лет и зимой 1490 года молодой, здоровый и полный жизненных сил князь Иван Молодой тяжело заболел. А поскольку проблемы со здоровьем у него случались и прежде, княжич хворал «камчугою в ногах» или, попросту говоря, подагрой, то лечили его, как и было заведено, свои доморощенные медики. Однако, вопреки обыкновению, ни одно из известных средств, применяемых докторами, на больного никакого целебного действия не оказывали, и тогда Иван III вынужден был обратиться за помощью к иностранным светилам.
И надо же было такому случиться, что примерно в это же самое время в Москву из Венеции по приглашению Софьи Фоминичны прибыли ее дальние родственники – братья Ралевы, которые привезли с собой затребованных княгиней для большого строительства зодчих, литейщиков, пушкарей, а заодно и знатного венецианского лекаря мистера Леона.
Похваляясь своей ученостью и обширными познаниями в искусстве врачевания, лекарь самонадеянно заявил великому князю, что если ему не удастся поставить молодого господина на ноги, то он готов за свое бахвальство поплатиться головой.
Наглость чужестранца произвела на Ивана III сильное впечатление. Cтороны ударили по рукам, и вскоре венецианский жид был допущен к больному. Но один день сменял другой, а в состоянии молодого князя заметных улучшений не наступало. И напрасно лекарь, прилагая еще больше стараний, пичкал несчастного горькими отварами и обкладывал его ноги горячими склянками, вылечить княжича ему не удалось.
В гневе на самозванца и в великой скорби по любимому сыну князь Иван Васильевич приказал отрубить хвастуну голову, тем более что лекарь сам назначил за жизнь своего пациента такую высокую цену.
А в это время по Москве стали, неизвестно кем, распространяться подозрительные слухи о том, что странная и неожиданная смерть молодого князя, не иначе, как дело рук ненавистной «грекини». Никто не мог поверить в то, что княжич, которому на ту пору едва исполнилось тридцать два года, умер от обыкновенной подагры. Москва была уверена, что только Софья, желая сжить своего пасынка со света, могла добавить ему в питье смертельный яд.
Заподозрил неладное в смерти сына и великий князь Иван III. И хоть никаких нитей заговора и злого умысла третьих лиц сыщикам в этой истории обнаружить не удалось, но тень сомнения в душе князя осталась. Не мог он сбросить со счетов и те давние, неприязненные чувства, которые Софья на протяжении многих лет испытывала к Ивану и даже не считала нужным их ото всех скрывать. Подозрения Ивана III усилились еще больше, когда Софья, не дожидаясь окончания траура, потребовала объявить наследником их старшего сына Василия.
Но к каким бы уловкам и хитростям не прибегала Софья Фоминична, какими бы ласками не одаривала мужа, а в одном он оставался тверд – престол по закону принадлежит Дмитрию! Единственное, в чем он уступил жене, это отдал в кормление Василию Тверское княжество. Уступка была существенной! Но пошел на нее Иван III только потому, что после смерти супруга Ивана Молодого, Елена Волошанка – княжна Тверская, не пожелала княжить сама, а вернулась в Москву и осталась вместе с малолетним сыном Дмитрием в доме своего тестя – Ивана III Васильевича.
Смерть Ивана Молодого, если допустить, что Софья каким-то образом была к ней причастна, не принесла княгине никаких выгод, но послужила тем спусковым механизмом, который предопределил ход всех дальнейших трагических событий.
И как только Иван III объявил семилетнего внука Дмитрия своим соправителем, так все столичное общество тут же раскололось на две враждебные друг другу группировки. Одна, отстаивая законность прав прямого наследника, приняла сторону княжича Дмитрия, а вторая, симпатизируя Софье, княжича Василия. Само собой разумеется, что главные роли в этой борьбе не на жизнь, а на смерть принадлежали двум давним соперницам, двум музам одного мужчины – Елене Волошанке и Софье Палеолог.
***
Известно, что в эту пору в Москве в умах и сердцах многих прогрессивно мыслящих людей, происходили большие брожения. Да и как было такому ни случиться, если соседствующий с Москвой Запад переживал трудные времена, связанные с реформацией Церкви. Основной причиной недовольства отдельных слоев населения католической Церковью стало ее моральное разложение. Церковь в лице римского Папы и монастырей владела огромными богатствами, что противоречило учению Христа о вере.
Немало вопросов к Церкви появилось и в Русской земле.
Вот и объявился сначала в Новгороде, а позже и в Москве некий монах-скитник, паломник по святым местам – Нил Сорский. В 1490 году Нил, призывая в своих проповедях духовную братию к самосовершенствованию, предложил служителям церкви добровольно отказаться от всех материальных благ, включая и земельные угодья. Последователи Нила Сорского со временем стали называться «нестяжателями».
Однако, как того и следовало ожидать, многие архиереи, отстаивая законное право Церкви на нажитую веками движимую и недвижимую собственность, встретили воззвание новгородского гостя в штыки. И хоть в пылу полемики никто не погиб, но и самому Нилу, и его сторонникам досталось изрядно.
Но прошло совсем немного времени, и вдруг выяснилось, что идеи Нила не канули в неизвестность вместе с ним, а очень даже живы, популярны и нашли живейший отклик как в среде служителей культа, так и при дворе Великого князя. Особенно они пришлись по душе Ивану III и его невестке Елене Волошанке.
Еще бы!
Ослабление Церкви, способствовало укреплению самодержавия.
Дальше – больше!
Идеи Нила Сорского были взяты на заметку и поддержаны главой Древнерусской Православной церкви митрополитом Зосимой. Противостоять таким сильным противникам было непросто!
И все-таки нашелся в Новгороде один закоренелый ортодокс по имени Иосиф Волоцкий, который не побоялся и вступил с «нестяжателями» в открытую борьбу. Сторонники Иосифа, отстаивающие имущественные накопления Церкви, стали называться «иосифлянами». Сам по себе протест Волоцкого ни Ивана III, ни его окружение не задевал до тех пор, пока в нападках «иосифлян» ни прозвучал вполне прозрачный намек на то, что в самом сердце княжества завелась крамола и что крамольники, являясь членами некоего тайного кружка, проповедуют многие ереси.
Тень подозрения пала на членов великокняжеского семейства и его близкое окружение.
Однако никому в Москве до этих ересей никакого дела не было! Москва 1492 год жила тревожным ожиданием нового апокалипсиса, нового конца света. Ведь, согласно древнерусскому летоисчислению, в 1492 году заканчивалась седьмая тысяча лет «от сотворения мира», а вместе с ней заканчивалась и сама жизнь на земле. Этим годом ограничивались и все расчеты церковных праздников («пасхалии»), потому как считалось, что далее они никому не понадобятся, не будут нужны, ибо мир навсегда погрузится в ужас, мор и мрак!
Но на следующий день – 1 сентября нового 1493 года, когда солнце снова взошло на небо и люди с радостью обнаружили, что они все еще живы, мир светел и ничего непоправимого не случилось, жизнь завертелась как обычно.
Первыми пришли в себя «иосифляне». Подогреваемые своим вождем Иосифом Волоцким, они развернули широкую компанию по искоренению в столице жидов и вероотступников. Но если для замаха на княжескую семью им не хватало пороха, то для митрополита Зосимы его оказалось в самый раз. Немало потрудились «иосифляне» и над сбором неоспоримых доказательств вины и недостойного служения архипастыря. Тем более, что в страшные времена средневековья обвинить человека в крамоле и ереси было делом обычным и никого особого труда не составляло.
В конце концов, избегая дальнейшего обострения борьбы с «иосифлянами», Иван III свел Зосиму с престола, сослав его сначала в Симонов монастырь, а потом и на Белоозеро – в духовную цитадель нестяжательства.
Но если бы докучливые «иосифляне» удовлетворились одной только этой жертвой! Так нет! Иосиф Волоцкий жаждал большой крови и искал еретиков повсюду, даже и в великокняжеской семье. Почувствовав в лице «иосифлян» ту единственную и необходимую поддержку, в которой она, развивая борьбу с Еленой, так давно нуждалась, Софья стала оказывать им посильное содействие.
Но сколько бы гонители еретиков не кружили вокруг Елены, а ничего существенного им выкружить не удалось. Все их обвинения сводились к одному, что Волошанка поддерживала знакомство с неким жидом по имени Схария, а значит, разделяла его еретическо – схоластические воззрения, которые получили распространение в обществе. Однако, обвинить княжну публично «иосифляне» не смели, понимая, что в таком случае в равной степени с ней виновным окажется и сам Великий князь Иван III. Как стало известно, он тоже неплохо знал Схарию, в течение многих лет вел с ним переписку и даже приглашал его к своему двору на службу.
***
Но был ли Схария на самом деле тем опасным еретиком и крамольником, каким его себе воображал Иосиф Волоцкий?
Многое из того, что сегодня известно о Схарии, свидетельствует о том, что он был по-своему выдающимся человеком своего времени. Сын знатного и богатого генуэзца Винченцо де Гизольфи Заккария-Схария пользовался большой известностью на Руси, но не только потому, что был генуэзцем. Так в своих письмах Иван III именует его всякий раз по-новому: то «фрязином» (то есть по-древнерусски итальянцем), то «черкасином» или «евреянином», то «жидовином» или «таманским князем».
И это не случайно!
Известно, например, что отец Заккарии, Винченцо, развивая торговые дела на Таманском полуострове, вступил в 1419 году в брак с черкесской княжной Бике-ханум, что и позволило их сыну, названному Заккарием, носить титул и занимать положение «князя Таманского».
Далее следы Заккария Гизольфи обнаруживаются уже в Константинополе, где судьба свела его с еврейским проповедником – раввином Коматяно, который и напичкал его голову всякой иудейской ересью.
Проведя в путешествиях по белу свету большую часть своей жизни, князь Таманский почерпнул немало разнообразных знаний как в Западной, так и в Восточной культуре. Так он приобрел славу всесторонне образованного человека. Существуют неопровержимые доказательства того, что Схария свободно владел несколькими языками: итальянским, черкесским, русским, латинским, татарским и еврейским.
На Русь в Великий Новгород Заккария прибыл в 1470 году вместе с литовским (ранее киевским) князем Михаилом Олельковичем, который, к слову сказать, был родным братом супруги Стефана Великого Молдавского, Евдокии Олельковны, а значит, родным дядей Елены Стефановны Волошанки. Можно с большой долей вероятности предположить, что, скорее всего, именно Стефан, «отрекомендовал» Заккарию своему будущему шурину Ивану III, как прелюбопытнейшего человека, и тот, в свою очередь, проявил к нему живейший интерес.
Как бы там ни было, но в Новгороде Схария-Заккария появился в качестве образованного и богатого аристократа международного уровня, а, может быть, даже и главы государства, имевшего немалое геополитическое значение, поскольку Таманский полуостров был узловым пунктом на одном из важных торговых путей из Европы в Азию.