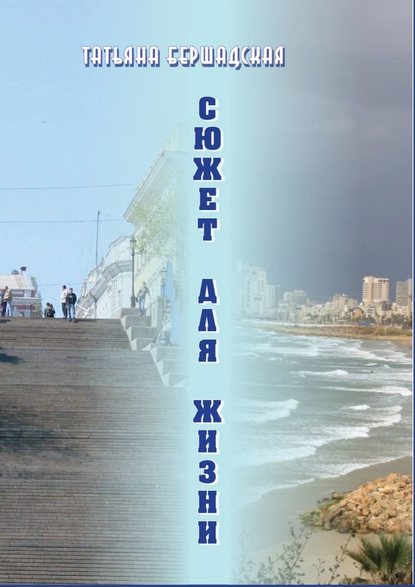По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сюжет для жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эй, придурки, оставьте собаку в покое, – крикнула Маня на своем начальном иврите. И тогда камень полетел в нее, но стукнулся о перила балкона. – Я звоню в полицию, – она показала им мобильник и стала тыкать в кнопки. Сводные братья что-то прокричали ей на своем языке и снова ударился камень о перила. Но они всё-таки удрали, а дворняга поковыляла в другую сторону.
«Все равно они её убьют, – подумала Маня, – не сегодня, так завтра, как Кирюшину черепашку. Господи, что за ублюдки! Откуда такая ненависть ко всему? Какой может быть мир, когда они растут и тренируются убивать кошек и собак, а потом людей, за то, что они другие? А ты, великий наш, всевидящий и всемогущий Бог, всё обещаешь, что мы с ними договоримся»?
Вопрос был риторический и ответа не предполагал.
В Яффо был их «первый дом на Родине», так трогательно называлась двухкомнатная съемная квартира за пятьсот долларов в месяц. Район не ахти, кругом арабы, а маклер, который им эту квартиру нашел и жил в том же доме, был редкой сволочью, даром, что «наш». Он особенно как-то не любил детей, Кирюша его раздражал, и этот тип как-то сказал Мане:
– Объясните своему ребенку, чтобы он не плакал при открытых окнах, это мешает жильцам. Все думают, что мальчика бьют.
– Это мешает тебе, – сказала Маня, – и ты прекрасно знаешь, что никто его не бьет. Мы целый день работаем, а Кирюша один дома после школы. Он ещё не привык, ему плохо одному, вот он и плачет. Он приходит из школы в час дня, а я с работы в два. И ты каждый день это видишь. А если ты, зараза, ещё хоть раз сделаешь ему замечание или какую-нибудь пакость устроишь с полицией или соцработниками – пеняй на себя. У тебя детей нет, Бог тебе их правильно не дал, и тебе не понять, что это такое – когда ребенок сидит один в пустой квартире и не смеет выйти во двор, потому что здесь его ждут «любящие» арабские братья. Тебе не понять, что чувствую я, представляя, как он с ключом на шее, идет домой, где не мама ждет, а записка на холодильнике, а мама в это время убирает чужие квартиры. И не смей ко мне больше приближаться на пушечный выстрел, иначе я твою рожу ой как попорчу!
Он затаился, но когда уже истекал срок аренды, не спрашивая, остаются они здесь или нет, привёл новых жильцов. Тогда Маня ещё не знала, что никто не имеет права насильно выселять из квартиры, пока съемщики не найдут новое жилье, но интуитивно почувствовала, что она в своем праве и сказала:
– Мы с места не сдвинемся, пока не найдем другую квартиру, и попробуй только какую-нибудь гадость учинить – очень пожалеешь!
Хозяин квартиры жил за границей, ему было всё равно, кто платит, а Маня платила…
Квартиру она нашла в Рамат-Гане. Вменяемые отношения с мужем неуклонно стремились к нулю. Новая квартира не была отдельной, там уже жила молодая пара. Муж – врач-стоматолог, жена – учительница музыки. Тоже соотечественники. Манина семья вселилась в одну из двух комнат. И ещё у них была половина огромного балкона, отгороженная от другой половины перегородкой из гипса. Получилась ещё одна комната для Кирюши, благо балкон был застекленный и зимой там было не холодно. Маня ещё и обогреватель включала, так что Кирюша не мёрз. В общем, устроились как-то, но… «не было мира под оливами». Маня, как черепаха, тащила на себе панцирь проблем и боли, понимая, что от себя не убежишь, что не квартиры менять надо, а от мужа бежать, но ещё, видимо, не всю цикуту она выпила, ещё трепыхалась где-то на донышке души надежда, что всё изменится.
Нет, ну это какой идиоткой надо быть, чтоб еще с «совка», зная эту пагубу мужа, тащить его в Израиль! Хотя… кто кого тащил – ещё вопрос.
Муж у Мани был большой авантюрист. И вовсе не родной папа Кирюши, что вселяло в Маню оптимизм, исключающий генетическую предрасположенность сына к аферам. Биологический же папа Кирюши остался в далеком далеке, с ним Маня развелась, когда сыну было около трёх лет. Первый муж был моряк и пропадал в рейсах месяцами. Мане хотелось нормальной семьи, но с учетом мужниной профессии, это было невозможно, а вот родить она хотела очень. Но с этим возникли проблемы. То есть забеременеть – да, получалось, довести процесс до логического завершения – уже нет. Эта война с природой продолжалась не один год, но пока безуспешно…
С мужем Маня познакомилась случайно на какой-то вечеринке в его доме. Она в тот день аккомпанировала детскому хору в школе, где преподавала ее подруга Вика. Это был День учителя, и Вика, зная, что Маня играет, попросила её помочь с музыкальным оформлением детского концерта в честь учителей. Маня согласилась, провела несколько репетиций с детьми, отыграла концерт. Рояль, заваленный букетами, напоминал надгробную плиту. Вот с этими цветами, роняя их на ходу, они с Викой и пришли в тот дом, где Маня познакомилась со своим будущим мужем. Тогда он не был один. У него жила, как выяснилось тут же, Манина приятельница Юля. Как тесен мир! Маня знала, что у Юли роман с каким-то «мариманом» и очень этому удивлялась, потому что Юля была слегка не в себе, работала в Галерее изобразительных искусств, и вся ее надмирность, отстраненность и утонченность ну никак не вязались с образом шумного и грубого моряка, но это к слову…
Позже выяснилось, что и он не лыком шит. И семья у него – покойный папа-адмирал и всё еще живая мама-певица. Сева был единственным сыном своей мамы и третьим отпрыском покойного адмирала. В свое время Севина мама очаровала боевого моряка, а дело происходило во время войны. Она тогда приехала к своему первому мужу – начальнику штаба флота, а получилось, что не к нему, а к будущему Севиному отцу. Тогда всё делалось быстро – развелись, поженились. И вот она уже адмиральская жена – красавица с невероятными цыганскими глазами. А брошенная супруга адмирала и мать его старших сына и дочери застрелилась с горя. Дети к тому времени были уже взрослыми: старший сын – курсант военного училища, дочь шестнадцати лет. Ясно, что к мачехе они испытывали разные чувства, но любовь в их перечень не входила, что и понятно.
Вот такая история предшествовала рождению Севочки. Но где написано, что любовь вырастает только в хорошо ухоженном саду? Маня свою свекровь не судила. Адмирал до конца жизни боготворил красавицу-жену и обожал сына. А однажды приехал в Москву, навестить дочь, и вместе с ней, в машине с открытым верхом поехал на Красную площадь: он стоял в машине, потянулся рукой, чтобы снять фуражку, рука упала, и адмирал рухнул, как подкошенный. Умер он, как и жил – ярко и быстро. И было ему всего 58 лет. Вдова осталась одна с 12-летним сыном, которого скоро отдала в интернат для детей комсостава флота, элитный, надо сказать, но всё-таки, интернат. И одна не осталась, а каким-то образом опять с ней рядом оказался первый муж. Так и жили, пока он не отошел в мир иной.
К тому времени Севочка вырос в красивого и неглупого парня, девушки ходили за ним табунами. Он был так избалован их вниманием, что не давал себе труда даже ухаживать за понравившейся девицей. Они сами за ним ухаживали. Он закончил военно-морское училище, женился на хорошенькой и очень оборотистой дочери армейского полковника, родил сына и вскоре развёлся, а она без особых страданий тут же снова вышла замуж.
Вот тогда у Севы появилась Юля, эстетка, припорошенная музейной пылью и с таким прибабахом, что он понял одно – «надо бечь». Но бежать было некуда, кроме как в море, потому что Юля уже поселилась у него в доме и пугала адмиральскую вдову своими нетривиальными фобиями. Пока Сева спасался в рейсах, Юля оставалась с его мамой в огромной квартире, унаследованной семьей после смерти адмирала. Она расхаживала по комнатам абсолютно голая, вгоняя в ступор потенциальную свекровь, плакала, жгла на сковороде котлеты и оставляла в ванной мелкие предметы интимной гигиены.
– Деточка, – мучительно краснея, говорила ей адмиральша, – это надо выбрасывать в мусорное ведро. Информировать меня о твоих женских неожиданностях абсолютно излишне.
Юля начинала бурно рыдать и кричала:
– Немедленно выключите свет, пусть будет темно и тогда вы ничего не увидите! Что вы от меня хотите? Где ваш сын? Я вас спрашиваю, где ваш сын?
Адмиральша спасалась бегством в свою комнату и сидела там, как мышь – тихо-тихо, в душе обращаясь к Богу за избавлением от страданий. Но то, что Юля была ей послана в наказание за грехи, ясно было и без Бога.
Юлина мама приезжала по звонку затюканной адмиральши и срочно определяля Юлю в психушку. Там она отлеживалась некоторое время, а когда наступала ремиссия, её выписывали и некоторое время Юля была тиха и адекватна. И даже ходила на работу в свой музей. Однажды, придя из очередного рейса, Сева не застал маму дома. Юля сидела в полной тьме на кровати и пела что-то грустное. Тут-то он и понял – приехали…
– А где мама? – спросил морской волк.
– В больнице, – певуче ответила Юля, – я ее навещаю, еду ношу.
Ясно было, что никуда она не ходит, а готовить она и вовсе не умела. Тогда Сева позвонил Юлиной маме и сказал:
– Евгения Николаевна, это Всеволод. Я сейчас дома. С Юлей что-то не в порядке, а мама в больнице и я…
– Я сейчас приеду, – быстро сказала Юлина мама, – будьте дома, ради бога, не оставляйте Юлю одну.
Она приехала, рассказала нашему моряку всё как есть, потому что, странным образом, все Юлины перемещения в психушку и обратно, происходили в его отсутствие, а когда он возвращался, Юля была в относительном порядке, ну, странная, конечно. А кто не странен? Ему и так хватало заморочек с ней, и его мать видела, что ему тяжело, но он, вроде, любил Юлю и мама молчала, не рассказывала – ни о Юлиных нудистских эскападах, ни об остальном. Мудрая была женщина, всю тяжесть Юлиной больной психики приняла на себя. Искупала вину перед погибшей первой женой адмирала? Неведомо, и уже не узнать…
Глава 4
Севина мама лежала в больнице Четвертого Санупра, там, где лечился весь комсостав флота с чадами и домочадцами. Юлю снова увезли в скорбный дом, а Сева остался один.
Но все это случилось гораздо позже. А сейчас Вика распихивала букеты в ведра и вазы, оживленно рассказывала о школьном празднике, и вдруг, повернувшись к Мане, сказала:
– Сыграй что-нибудь такое.., – она прищелкнула пальцами.
Маня окинула взглядом гостей, стол и поняла, что Чайковского играть не будет – не та аудитория. «Yamaha» стояла с открытой крышкой, Маня присела на табурет, погладила клавиши и заиграла «Ямщик, не гони лошадей», ну и запела, конечно. Разговоры за столом стихли сразу. Потом был любимый Манин романс из «Дней Турбиных», «Калитка», ну, в общем, обязательный застольный репертуар. Сева потом говорил, что с этого всё началось. Но ещё очень далеко было это «потом».
Юля в конце концов исчезла из Севиной жизни, а Маня появилась, правда, появилась несколько раньше, чем исчезла Юля, но никаких «таких» отношений с Севой не было. Маня просто помогала, наравне с той же Викой или Соней (ещё одной подругой).Они готовили для Юли и Севиной мамы по очереди, убирали квартиру, ходили за покупками. Маня жила напротив Севы, через площадь, и ей было удобнее забегАть и приносить покупки, и чаще других стоять у плиты, пока Сева мотался – то в психушку, то к маме в больницу, и не очень-то соображал, что вообще происходит. А происходило…
Однажды Сева вдруг понял, что ему никак Маню потерять нельзя. Вот всё кончится, мама вернется домой и Юля… к своим родителям, только бы Маня не исчезла с горизонта.
И Маня уже всё про себя знала. А ещё… Она поняла, что окончательно расстается с Максом.
От Макса не было за год ни одного письма, кроме первого, сразу по приезде в Америку. Когда он уехал, у Мани началось какое-то тихое помешательство. Она оставалась в редакции по вечерам, придумывала себе работу с письмами, доводку материалов. Кроме неё и дежурного по выпуску, никого в редакции не было и она сидела до темноты, а потом шла пешком через полгорода к дому Макса, садилась на скамейку на трамвайной остановке, что напротив, смотрела на окна его квартиры и представляла себя там, со всей семьей Макса. Ей было хорошо и уютно в этих фантазиях, потому что они были реальнее, чем вся её настоящая жизнь. Только… писем от Макса все не было. Она писАла, как оглашенная, почти каждый день, и отправляла эти письма, и ждала ответных. Не было писем, хоть умри. Тут у нее подошел отпуск, и родители срочно отправили её в Ленинград, к двоюродной сестре, для смены обстановки.
Семейка у Ленки была та еще: муж, две дочки тинейджерского возраста и свекровь. Ленкины девчонки были умненькие, острые на язык и вечно оспаривающие друг у друга какие-то, одним им известные, права. Любящий и добрый папа был самым спокойным в этом вечно жужжащем улье, но и его иногда доставали, а бабку – так ту и вообще за человека не считали. Ленка разрывалась между всеми, срываясь – тоже на всех.
Маня приехала и сразу вплелась в сложный узор отношений, оказавшись в самом эпицентре бурной жизни этой «итальянской» семьи. Но ей всё нравилось здесь…
У себя дома она тыкалась, как снулая рыба, в стенки своего мутного аквариума, родители разговаривали с ней тихо, во всём соглашаясь, о Максе не произносилось ни слова. И она постепенно выпадала из нормального обращения, съеживалась, свертывалась, как сухой палый лист. Усыхала вся – и внутри, и снаружи.
Была младшая сестренка у Мани, и как это к слову не пришлось до сих пор? Была сестра Верочка, но как-то так сложилось, что не получилось у них с Маней близости, даже по закону родства. У Верочки была своя жизнь. Восемнадцать лет – такой возраст – не до сестры, хоть бы и умирающей от тоски по любимому человеку. Вообще, странно, Верочка, как будто, не участвовала в этом горьком сценарии под названием «Манина любовь». Она, конечно, всё видела и знала, но ее молодой эгоизм был такой мощной силы, что не оставлял пространства для сострадания, а Маня, в своей мУке и почти уже нежизни, ничего и не ждала от младшей сестры; она, впрочем, ни от кого ничего не ждала.
И тут эта поездка в Питер, Ленкина чокнутая семейка, какой-то забубенный табор, все орут, никто друг друга не слышит. В комнате у девчонок просто хаос – и как они всё находят там, непонятно. Маню сразу определили к делу – она стала третейским судьей в девчонкиных стычках и «жилеткой» для Ленки. В этой веселухе находилось место всему, и Маниной тоске тоже. Вот уж Ленка-то её лечила, так лечила. И выслушивала, откуда терпение только бралось, все Манины горестные монологи не по одному разу (непонятно, кто для кого был «жилеткой»).И слезы, и сопли утирала, и кормила-поила. Водила в театры, таскала по магазинам и салонам… А потом познакомила с Мишкой. Это был абсолютно ненормальный мужик, старше Мани, даже трудно сказать – на сколько; с лохматой седеющей шевелюрой, такой же бородой, жёлтыми прокуренными зубами, вечно вылезающей из брюк майкой. Обувь как аксессуар не угадывалась. На ногах было нечто, но это нельзя было назвать обувью в общепринятом смысле. Мишка был громкий, грубый, и какой-то дурной, хоть и умный. Он Маню просто гипнотизировал своей непохожестью ни на кого. И когда он на нее смотрел, немного коровьими печальными глазами, Мане хотелось почесать его за ухом и как-то успокоить, что ли, чтоб так надрывно не смотрел.
В общем, случилось то, что случилось, и Маня даже не испытала никаких угрызений совести, потому что Мишку можно было воспринимать только в одной плоскости – горизонтальной. Он, как только в первый раз пришел, и Маня его увидела, был, как будто, с тавром на лбу. Там читалось одно слово – койка. Это произошло у Ленки в квартире, когда все разбежались по своим делам, и даже Ленкина свекровь куда-то утопала, а Мишка пришел и без лишних слов навалился и смял Маню, как фантик от конфеты. И это было, как… в общем, «гусары денег не берут»! А ей и не надо было серьезных отношений. По большому счету, и того, что случилось, тоже не надо было. Но – случилось. А потом случалось ещё и ещё. Однажды – у него дома, причем, его мама в это время тоже была там, и, конечно, к происходящему не могла отнестись безучастно. Она несколько раз проходила мимо закрытой двери в Мишкину комнату, и тогда Маня деревенела, а Мишка начинал дико ржать. Мама произносила две фразы, но каждый раз с интонациями, нарастающими «крещендо»:
– Нельзя ли потише?! Вы не одни!
После первого же мамочкиного демарша Маня попыталась удрать, но Мишка сказал:
– Не дергайся, это она от зависти, – и снова заржал. Ну – гусар, что с него взять?
В общем, Маня в Питере отметилась. Вся эта кривая-косая связь оборвалась, как только она купила билет на самолет. Она себе сказала: «Всё. Ничего не было. Если начнутся письма – отвечу пару раз и закруглю. Тут все ясно. У него таких, как я, воз и маленькая тележка. Я, может, только помоложе остальных, а может, и не всех. Ну и ладушки». К Максу это не имело никакого отношения. Это было Манино зазеркалье.
Были потом письма от Мишки, да, были и ответные. И быстро, так как Маня хотела, закруглить не получилось. Что-то было в этом придурке, какой-то манок. И дело не в том, что между ними случилось. Мишка был шут при короле, вот что! Ему позволено было многое, и вот эта его бесшабашность и безнаказанность, Маню просто заворожили. Таких оторв она еще не встречала. Вся Мишкина брутальность вписывалась в Манину новую картину мира по принципу «чем хуже, тем лучше». Она понимала только одно – весь её ресурс любви так до основания вычерпан, что ни на кого больше не осталось. А если так, то ведь совершенно неважно, кто будет рядом, лишь бы не сволочь. Мишка сволочью не был, но она с ним ничего не связывала в будущем, потому что, всё-таки, того что было в Мишке, оказалось недостаточно для просто жизни. Потом, постепенно, всё сошло на нет.
Ленка в телефонном разговоре как-то сказала, что он женился, потом, через несколько лет его жена умерла. Маня была уже замужем, и все эти новости её совершенно не тронули.
Глава 5