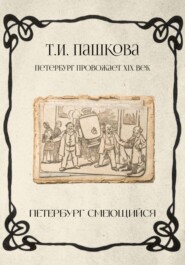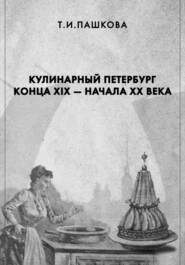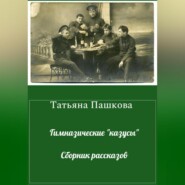По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гимназические «казусы». Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
11 декабря 1830 г. в пансионе Высшего училища за «ужинным столом» произошёл беспорядок: воспитанник Павлов «излишне требуя картофелей», осмелился угрожать буфетчику Акинфею бросить в него ножом. Все это происходило в присутствии дежурного комнатного надзирателя и, по мнению директора П.А. Шипилова, не только не были употреблены надлежащие меры к укрощению буйного воспитанника, но даже на следующий день утром ему не было донесено о происшествии.
Директор потребовал строжайше наблюдать, чтобы во время стола воспитанников была совершенная тишина и порядок, не дозволять пансионерам или полупансионерам, выходя из-за стола, брать с собой пироги или класть в карман "картофели" и тому подобное. Заметив ослушание против этих правил благопристойности и порядка, учителям надлежало высылать нарушителей из-за стола к стене.
Что касается пансионера Павлова, то его посадили на хлеб и воду «в порожние лазаретные комнаты».
Действующие лица
П.А. Шипилов (1784 – 1855 гг.) – директор Высшего училища, а затем преобразованной из него Второй гимназии в 1829 – 1837 гг. Родом из Вологды, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, в Коллегии иностранных дел, уездным предводителем дворянства, директором народных училищ Вологодской губернии. Чему и где учился – неизвестно.
После службы во Второй гимназии был назначен директором Гатчинского Сиротского института.
Как юный Николай Устрялов стал гимназическим учителем
Зимой 1827 г. Николай Устрялов, недавно окончивший Университет и поступивший на службу в канцелярию Министерства финансов, узнал за обедом от профессора Толмачева, что в Третьей гимназии «назначен небывалый до тех пор конкурс для избрания учителя истории». Двадцатидвухлетний молодой человек, воодушевившись, решил попытать счастья и подал директору гимназии В.В. Шнейдеру просьбу о причислении его в «конкуренты». Устрялов, конечно, опасался маститых и опытных соперников, но больше всего боялся, что придётся читать лекцию на латыни. Темой собеседования должна была стать шведская история, поэтому Николай купил огромную книгу С. Пуффендорфа и зубрил ее почти наизусть.
В назначенный день в одном из классов гимназии собрались судьи: новый товарищ министра просвещения граф Д. Н. Блудов, ректор Университета А.А. Дегуров, известный латинист Ф.Б. Грефе, директор В.В. Шнейдер и другие лица. М.М. Тимаев и Н.И. Рашков, преподававшие ранее в гимназии, отказались от конкурса, в результате помимо самого Устрялова явился только В.Т. Плаксин. Устрялову выпало выступать первым. Он читал ученикам об эпохе Карла XI и начале царствования Карла XII. Не без хвастовства и самолюбования Николай Герасимович написал в своих воспоминаниях, что Блудов был «очарован» его лекций. Плаксин, по оценке его конкурента, читал «с гордостью и уверенностью», как опытный педагог, но с ошибками в фактах. Устрялов попросил слово для возражений – учеников под предлогом обеда удалили из класса и затеяли диспут. Плаксин оскорбился, заявил, что не намерен продолжать конкурс, взял шляпу и ушёл.
Так будущий известный историк Н.Г. Устрялов стал в марте 1828 г. гимназическим учителем. Жалованье для молодого человека было ему положено хорошее – 2250 руб. в год, но и работа была не лёгкая – 22 часа уроков в неделю. Проработал он в школе недолго, всего четыре года. По его словам, воспитанники занимались прилежно, экзамены сдавали блистательно, но у молодого педагога не задались отношения с директором В.В. Шнейдером – человеком «сухим и бездушным». В 1832 г. Н.Г. Устрялов окончательно перешёл на службу в Университет, получив место адъюнкта по кафедре русской истории.
Действующие лица
Н.Г. Устрялов (1805 – 1870 гг.) – историк, профессор русской истории С.-Петербургского университета, декан историко-филологического факультета в 1839 – 1855 гг., автор гимназического учебника «Начертание русской истории»
Я.В. Толмачев (1779 – 1873 гг.) – профессор С.-Петербургского университета, автор учебников по словесности и красноречию. В 1831 г. был уволен под предлогом отсутствия педагогических способностей.
Д.Н. Блудов (1785 – 1864 гг.) – литератор, один из создателей литературного общества «Арзамас», товарищ министра народного просвещения с 1826 г., министр внутренних дел в 1832 – 1838 гг.
А.А. Дегуров (1765 – 1849 гг.) – профессор (с 1816 г.), ректор С.-Петербургского университета в 1825 – 1836 гг. Способствовал Д.П. Руничу в увольнении ряда профессоров в 1821 г.
Ф.Б. Грефе (1780 – 1851 гг.) – профессор латинской и греческой словесности в Главном педагогическом институте, декан историко-филоллогического факультета С.-Петербургского университета в 1836 – 1839 гг.
М.М. Тимаев (1796 – 1858 гг.) – историк, окончил в 1816 г. Главный педагогический институт, среди лучших студентов был отправлен за границу для изучения ланкастерского метода. Преподавал историю в различных учебных заведениях, в том числе в С.-Петербургской (будущей Третьей) гимназии в 1823 – 1827 гг.
Н.И. Рашков – учитель истории в С.-Петербургской гимназии в 1827 – 1828 гг.
В.Т. Плаксин (1795 – 1869 гг.) – писатель, литературный критик; поступил 1817 г. в Главный педагогический институт, но был исключён до окончания курса Д.П. Руничем за «неблагонадёжность к учительскому званию». Впоследствии преподавал словесность и литературу в разных учебных заведениях
В.В. Шнейдер – директор Третьей гимназии в 1828 – 1837 гг.
Самуэль фон Пуффендорф (1632 – 1694 гг.) знаменитый немецкий историк и философ, историограф и советник шведского короля Карла XI
Как в Петербурге не появилось «Гимназическое училище»
В начале XIX в. столичные дворяне неохотно отправляли своих сыновей в единственную в городе Губернскую гимназию. Во-первых, они не хотели, чтобы их дети сидели на одной ученической скамье со всяким «сбродом», т.е. сыновьями лавочников, купцов, мещан и т.д. Во-вторых, гимназическое образование ценилось мало, поскольку не давало никаких преимуществ на гражданской и военной службе. Гораздо престижнее было отправить своих отпрысков в Царскосельский лицей, какой-нибудь частный пансион, за границу или, на худой конец, учить наукам и языкам на дому.
К концу 1830-х гг. ситуация существенно изменилось. По новому Уставу учебных заведений 1828 г. отличившиеся ученики принимались по конкурсу в Университет на казённое содержание (при этом они были обязаны прослужить после выпуска по учебному ведомству не менее шести лет). Те, кто имел похвальные гимназические аттестаты, получали на гражданской службе первый классный чин по Табели о рангах через год (если были из родовых дворян); через три года (если были из личных дворян); все остальные – через пять лет. Особые льготы были предусмотрены для изучавших греческий язык: они сразу после окончания гимназии получали XIV класс и соответствующие места на службе
В Петербурге к этому времени было открыто уже четыре мужских гимназии: три в центральной части города и одна, Четвертая или Ларинская, – на Васильевском острове. Однако число желавших учиться постоянно увеличивалось и Министерство просвещения озаботилось «заблаговременным поиском новых средств к удовлетворению похвального стремления с.-петербургского юношества к основательному образованию».
Летом 1837 г. министр просвещения граф С.С. Уваров обратился к императору Николаю I с ходатайством о разрешении открыть в городе особое «Гимназическое училище». Уваров утверждал, что население Большой и Малой Коломны «весьма отдалённо знает» о существующих в столице гимназиях. Он готов был предоставить пустовавший министерский дом на Почтамтской улице под новое учебное заведение. Расходы на его содержание должны были составить весьма внушительную сумму – 22 тысячи рублей в год плюс единовременные издержки на приспособление дома под учебные нужды за счёт сумм Государственного Казначейства или процентов с общего экономического капитала учебных заведений Петербурга.
Штат Гимназического училища и расходы по нему планировались следующие:
Инспектору – 2500 руб. в год
Законоучителю – 800 руб.
Четырём учителям (русского, латыни, математики и истории) по 2250 руб. каждому
Двум младшим учителям (французского и немецкого языков) по 1200 руб. каждому
Учителю чистописания и рисования – 600 руб.
Надзирателю за вольноприходящими учениками – 1000 руб.
На библиотеку и учебные пособия – 450 руб.
На награды ученикам – 1900 руб.
На канцелярские припасы – 100 руб.
На содержание дома, служителей и прочие расходы – 4000 руб.
Предполагалось, что все служащие лица должны были пользоваться одинаковыми преимуществами по службе с учителями гимназий. Если сравнить проектировавшийся штат «Гимназического училища» со штатом обычной гимназии, то можно заметить, что инспектор и учителя действительно должны были получать одинаковое жалованье, за исключением законоучителя и учителя рисования, которые теряли: первый – 400 рублей годовых и второй – 300. Несколько меньше училище получало на обзаведение библиотекой, канцелярскими принадлежностями и награды ученикам, но зато на 1300 руб. больше на содержание дома. Последнее было, очевидно, связано с тем, что здание на Почтамтской улице нуждалось в определённой перестройке.
В целом проектировавшееся учебное заведение все равно обходилось казне раза в два дешевле, чем любая гимназия. Однако по каким-то причинам император не одобрил этот проект, и «Гимназическое училище» так и не было открыто.
Новая Пятая мужская гимназия была открыта в столице только в 1845 г. у Аларчина моста на Екатерингофском проспекте (ныне – пр. Римского-Корсакова).
Действующие лица
граф С.С. Уваров (1786 – 1855 гг.) – попечитель С.-Петербургского учебного округа в 1811 – 1821 гг., министр народного просвещения в 1833 – 1849 гг; президент Академии наук с 1818 г.
Учреждения
Четвертая (Ларинская) гимназия – была основана 15 августа 1836 г. на средства из капитала, пожертвованного в царствование Екатерины II купцом П. Д. Лариным и находившегося в распоряжении Министерства народного просвещения. Поскольку Васильевский остров был торговым центром Петербурга, в новое учебное заведение кроме детей дворян и чиновников стали принимать мальчиков из купеческих семей, которых готовили к коммерческим занятиям. Гназия располагалась по адресу: Васильевский остров, 6-я линия, д. 15
Пятая гимназия – открылась 23 ноября 1845 г. Первоначально предполагалось вместо древних языков усилить преподавание точных наук: математики, физики, геометрии, механики, естественной истории и химии. Но в итоге решением министерства гимназия была основана на общих основаниях.
Латинист-«оригинал»
Одним из самых известных учителей С.-Петербургской губернской (затем, с 1830 г., – Второй) гимназии был Никита Федорович Белюстин, автор учебников латыни, по которым учились многие поколения гимназистов. После окончания в 1811 г. Педагогического института он поступил на службу в гимназию в качестве гувернёра при пансионе и проработал в этой должности десять лет. Одновременно с 1813 г. и вплоть до выхода в отставку Белюстин преподавал латинский язык, в 1820 г. был назначен старшим учителем русского языка, а в 1824 и 1825 гг. помимо прочего преподавал еще политическую экономию и римские древности. С 1826 г. он обучал латыни не только гимназистов, но и учащихся Горного кадетского корпуса. В 1841 г., не доработав нескольких месяцев до выслуги 30 лет, тяжело заболел и был вынужден оставить службу. Начальство отмечало его «примерное рвение и пламенную любовь к своему предмету», а также особенные труды «на поприще педагогии».
Что же касается учеников, то они характеризовали его как большого «оригинала». Белюстин был «предан своему делу, строго взыскивал за каждое неправильное ударение и приходил в восторг от верной скандовки стихов Вергилия». Однако оригинальность учителя проявлялась прежде всего в неимоверной вспыльчивости и невоздержанности на язык. Нередко урок Белюстина заканчивался тем, что весь класс в наказание стоял на коленях у учительской кафедры. Один из бывших воспитанников, А.О. Реде, писал, что однажды на такой урок явился с визитом министр просвещения граф С.С. Уваров и, войдя в аудиторию, с улыбкой поинтересовался, «не молельня ли это». В другой раз директор гимназии А.Ф. Постельс, услышав из коридора брань учителя, заглянул в класс и велел мальчикам встать с колен. Однако латинист в запальчивости заявил начальнику: «Вы что, милостивый государь, мешаетесь не в своё дело, извольте идти вон!» После урока ученики отправились к директору извиняться за неисполнение его приказания и объяснили, что они очень уважают своего педагога, прощают ему все причуды и просят оставить все по-прежнему.
К нерадивому ученику Никита Федорович мог обратиться с такой речью: «В твоих ли поганых лапах держать священную книгу Цицерона? Что, если бы он теперь вошёл к нам в класс? Что бы он сказал? Он сказал бы, что или ты болван, или учитель твой дурак. Но так как я дураком быть не могу, ибо получаю пять тысяч рублей жалованья, то становись на колени, подлая тварь, каналья!» Тем не менее, несмотря на всю эту ругань, предмету своему Никита Федорович учил основательно, его ученики могли свободно объясняться на латыни. Дети чувствовали, что строгость Белюстина напускная, а на самом деле он «прекраснейший человек, истинно добрый, всегда готовый от души помочь своим ближним».
Действующие лица