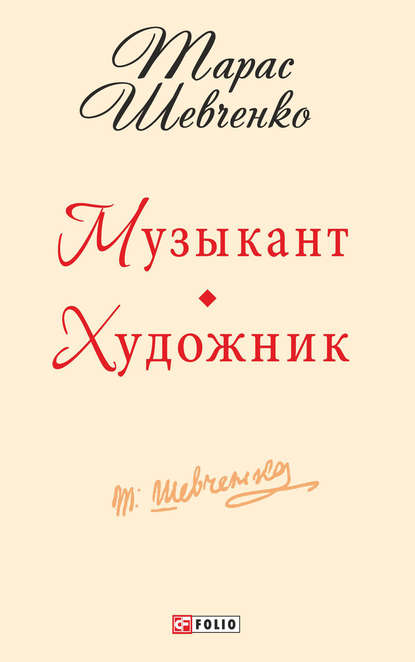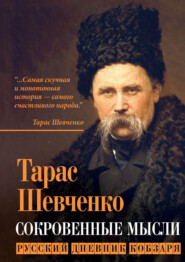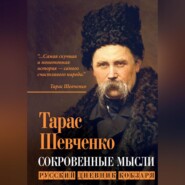По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Музыкант. Художник
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Уже по двенадцатому! Боже мой, с какою быстротою летят наши старые лета! – проговорил он как бы с самим собою.
– Двенадцать! Двенадцать! Да!.. – почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. – Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?
– Не знаю, – отвечал я.
– От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?
– Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.
– Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского[66 - Олександр Олександрович Бестужев (Марлiнський) (1797 – 1837) – росiйський письменник i публiцист, надзвичайно популярний у 1830-х рр., коли його називали «Пушкiним прози».], так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.
Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:
– Эти, братец, бумаги?
– Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, – сказал он, обращаясь ко мне, – вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.
И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остановясь на лоскуте синей бумаги, он сказал:
– А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?
– Помню, – я говорю.
– Вот я исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете… Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.
И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:
– А знаете что? Сегодня у нас середа. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие – помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.
Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.
Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случалося читать подобное письмо.
Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.
Вот что писал мне мой бесталанный друг:
«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею[67 - У червнi 1844 р. Михайло Глiнка виiхав iз Санкт-Петербурга в Париж.]. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталося без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!
Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю, какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.
После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, – так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалася рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение. Красавица – и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонаротти, когда ослеп[68 - Про те, що Мiкеланджело пiсля завершення розписiв Сiкстинськоi капели на якийсь час втратив зiр, писав Джорджо Вазарi у своiй книзi «Життеписи найславетнiших живописцiв, скульпторiв та архiтекторiв» (1550).], как она, бедная, страдала.
В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук[69 - Великi Луки – старовинне росiйське мiсто, повiтовий центр Псковськоi губернii (нинi районний центр Псковськоi обл. Росii).], на станции Сыруты[70 - Серути – поштова станцiя неподалiк Великих Лук.] умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.
По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была не велика. Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.
О, лучше бы я никогда не видал свету Божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.
После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел – сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне[71 - Ідеться про Петропавлiвську лiкарню, вiдкриту в 1835 р. Кошти (400 тис. карбованцiв асигнацiями) на побудову «больницы, учреждаемой на Петербургской стороне», дав iмператор Микола І.].
Меня стали посещать по середам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.
И во едину из суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы осталися сиротами.
Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох[72 - Герман Кох (1807 – 1868) – головний лiкар Петропавлiвськоi лiкарнi.], проходя мимо моей койки, и не останавливался.
Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.
Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду.
Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.
На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:
– О чем вы так грустите?
– О том, я думаю, о чем и вы: о здоровьи.
Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей: «Здоровье ваше возобновляется, да о здоровьи так и не грустят, как вы грустите».
– Да, это правда, – сказала она и закрыла глаза рукою.
Служитель опять загнал нас в палаты.
Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такою грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.
– Вы, должно быть, страшно несчастны? – сказал я ей, садяся на скамейку.
– А вы счастливы? – спросила она, взглянувши на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением.
– Всмотритеся в меня, – сказала она.
Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.
– Неужели вы меня не узнаете? – спросила она едва внятным шепотом.
– Не узнаю, – ответил я.
– Так я, должно быть, страшно переменилась? – И, немного помолчав, сказала:
– Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18… года[73 - Хазяiн Качанiвки Григорiй Тарновський вiдзначав своi iменини на «теплого Юрiя» – 23 квiтня (6 травня).]. Что, вспомнили?
– Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич[74 - Прототипом цього образу могла бути племiнниця Тарновського Марiя Степанiвна Кржисевич (уроджена Задорожна) (1824 – 1905).]?
– Я, – едва она проговорила и залилася горькими слезами.
На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.
– Двенадцать! Двенадцать! Да!.. – почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. – Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?
– Не знаю, – отвечал я.
– От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?
– Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.
– Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского[66 - Олександр Олександрович Бестужев (Марлiнський) (1797 – 1837) – росiйський письменник i публiцист, надзвичайно популярний у 1830-х рр., коли його називали «Пушкiним прози».], так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.
Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:
– Эти, братец, бумаги?
– Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, – сказал он, обращаясь ко мне, – вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.
И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остановясь на лоскуте синей бумаги, он сказал:
– А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?
– Помню, – я говорю.
– Вот я исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете… Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.
И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:
– А знаете что? Сегодня у нас середа. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие – помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.
Я согласился и, после долгих упрашиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.
Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случалося читать подобное письмо.
Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.
Вот что писал мне мой бесталанный друг:
«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею[67 - У червнi 1844 р. Михайло Глiнка виiхав iз Санкт-Петербурга в Париж.]. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталося без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!
Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю, какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.
После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, – так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалася рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение. Красавица – и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонаротти, когда ослеп[68 - Про те, що Мiкеланджело пiсля завершення розписiв Сiкстинськоi капели на якийсь час втратив зiр, писав Джорджо Вазарi у своiй книзi «Життеписи найславетнiших живописцiв, скульпторiв та архiтекторiв» (1550).], как она, бедная, страдала.
В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук[69 - Великi Луки – старовинне росiйське мiсто, повiтовий центр Псковськоi губернii (нинi районний центр Псковськоi обл. Росii).], на станции Сыруты[70 - Серути – поштова станцiя неподалiк Великих Лук.] умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.
По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была не велика. Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.
О, лучше бы я никогда не видал свету Божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.
После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел – сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне[71 - Ідеться про Петропавлiвську лiкарню, вiдкриту в 1835 р. Кошти (400 тис. карбованцiв асигнацiями) на побудову «больницы, учреждаемой на Петербургской стороне», дав iмператор Микола І.].
Меня стали посещать по середам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.
И во едину из суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалася под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы осталися сиротами.
Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох[72 - Герман Кох (1807 – 1868) – головний лiкар Петропавлiвськоi лiкарнi.], проходя мимо моей койки, и не останавливался.
Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.
Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду.
Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.
На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:
– О чем вы так грустите?
– О том, я думаю, о чем и вы: о здоровьи.
Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей: «Здоровье ваше возобновляется, да о здоровьи так и не грустят, как вы грустите».
– Да, это правда, – сказала она и закрыла глаза рукою.
Служитель опять загнал нас в палаты.
Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такою грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.
– Вы, должно быть, страшно несчастны? – сказал я ей, садяся на скамейку.
– А вы счастливы? – спросила она, взглянувши на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением.
– Всмотритеся в меня, – сказала она.
Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.
– Неужели вы меня не узнаете? – спросила она едва внятным шепотом.
– Не узнаю, – ответил я.
– Так я, должно быть, страшно переменилась? – И, немного помолчав, сказала:
– Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18… года[73 - Хазяiн Качанiвки Григорiй Тарновський вiдзначав своi iменини на «теплого Юрiя» – 23 квiтня (6 травня).]. Что, вспомнили?
– Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич[74 - Прототипом цього образу могла бути племiнниця Тарновського Марiя Степанiвна Кржисевич (уроджена Задорожна) (1824 – 1905).]?
– Я, – едва она проговорила и залилася горькими слезами.
На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.