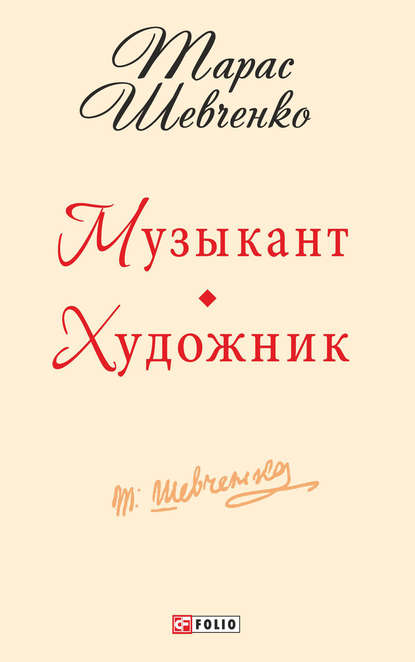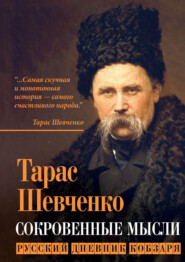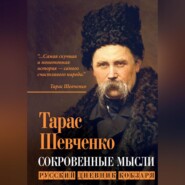По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Музыкант. Художник
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гоп-чук, гречаныкы,
Гоп-чук, печении[55 - Слова з украiнськоi народноi пiснi-танцю «Гречаники».].
Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки [и] целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.
Одни простодушные счастливцы могут группировать из себя подобную картину.
В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою – старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка – это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушилися фрукты, варилися варенья и созидалися разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.
В эту хатку на все лето выносилося фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталася в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.
Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал – и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодел.
В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.
После чаю в хатке зажгли свечи. M-lle Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалася одна из божественных сонат божественного Бетговена.
Мы все осталися под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети – и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.
За сонатой Бетговена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»[56 - Ідеться про заупокiйну месу Моцарта – останнiй твiр великого композитора.]. И в заключение совершенно неожиданно:
Ходыть гарбуз по городу[57 - Початок украiнськоi народноi пiснi «Ходить гарбуз по городу».].
Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.
Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.
Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.
Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединилися к ним – решительно ничего не помогло. Завтра, говорит, я вам сыграю, а то сегодня это значит – после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. [В]он, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает. И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.
Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.
Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, – он меня просто приворожил к себе.
Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.
– Отца, – говорил он, – я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, – а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить также, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатилися из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.
Сотский похоронил ее [за] тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.
И, знаете, мне понравилось мое новое положение, [по]тому что я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне понравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:
На мори сынему, на камени билому
Ясный сокил квылыть-проквыляе…[58 - Першi рядки думи про Олексiя Поповича.]
Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.
Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут?] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилася перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! – и, обратяся к господам, сказала: – Я его непременно возьму к себе в пажи».
Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, – прибавил он и замолчал.
– Грустная, правду сказать, история.
– Что делать – прошедшее мое, действительно, грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.
– Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и Господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.
– Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.
– О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.
– Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?
– Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михаилу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.
И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем. «Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях».
В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.
На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети – и те даже заплакали, услыхавши о таком вашем неделикатном поступке.
От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею. «И не думайте, – говорила она, – и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?» – «Такой я немец, как ты немкиня», – проговорил Антон Адамович и засмеялся.
– Вот и Тарас Федорович останется у нас, – продолжала Марьяна Акимовна. – Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцовать хоть целый день гречаныки.
– И метелыцю, мамаша, – проговорили разом обе девочки.
Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.
– Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.
Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.
Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалося мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, – а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаныки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной. А, глядя на этот эскиз, я как будто снова любуюся этой живой картиной и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.
Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.
На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселися в спокойную нетычанку[59 - Нетичанка – бричка з плетеним кузовом.] Антона Адамовича, запряженную парою добрых коней, и покатилися по гладкой извилистой дорожке.
Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамычу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатилася быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина – и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.
Мне стало грустно, так грустно, как будто расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и сталось.
Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалася нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря[60 - Тобто Свято-Троiцького собору.].
Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча[61 - Ідеться про дзвiницю Варваринськоi церкви, реконструйовану в 1844 – 1845 рр.].
– Что это такое за урод торчит? – спросил я у своего приятеля.
Гоп-чук, печении[55 - Слова з украiнськоi народноi пiснi-танцю «Гречаники».].
Антон Адамович, сидя на крылечке, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки [и] целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.
Одни простодушные счастливцы могут группировать из себя подобную картину.
В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалин стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою – старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка – это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушилися фрукты, варилися варенья и созидалися разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.
В эту хатку на все лето выносилося фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталася в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.
Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал – и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодел.
В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.
После чаю в хатке зажгли свечи. M-lle Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалася одна из божественных сонат божественного Бетговена.
Мы все осталися под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети – и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, посматривали друг на друга.
За сонатой Бетговена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»[56 - Ідеться про заупокiйну месу Моцарта – останнiй твiр великого композитора.]. И в заключение совершенно неожиданно:
Ходыть гарбуз по городу[57 - Початок украiнськоi народноi пiснi «Ходить гарбуз по городу».].
Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.
Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.
Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.
Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединилися к ним – решительно ничего не помогло. Завтра, говорит, я вам сыграю, а то сегодня это значит – после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. [В]он, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает. И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.
Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.
Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, – он меня просто приворожил к себе.
Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братиею). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.
– Отца, – говорил он, – я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, – а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить также, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатилися из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.
Сотский похоронил ее [за] тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего вожака.
И, знаете, мне понравилось мое новое положение, [по]тому что я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне понравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:
На мори сынему, на камени билому
Ясный сокил квылыть-проквыляе…[58 - Першi рядки думи про Олексiя Поповича.]
Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.
Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут?] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилася перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! – и, обратяся к господам, сказала: – Я его непременно возьму к себе в пажи».
Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, – прибавил он и замолчал.
– Грустная, правду сказать, история.
– Что делать – прошедшее мое, действительно, грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.
– Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и Господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.
– Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.
– О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.
– Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?
– Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михаилу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.
И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем. «Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях».
В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатою было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.
На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети – и те даже заплакали, услыхавши о таком вашем неделикатном поступке.
От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею. «И не думайте, – говорила она, – и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?» – «Такой я немец, как ты немкиня», – проговорил Антон Адамович и засмеялся.
– Вот и Тарас Федорович останется у нас, – продолжала Марьяна Акимовна. – Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцовать хоть целый день гречаныки.
– И метелыцю, мамаша, – проговорили разом обе девочки.
Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.
– Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.
Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.
Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалося мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, – а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаныки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной. А, глядя на этот эскиз, я как будто снова любуюся этой живой картиной и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.
Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.
На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю, даже через село, до самой клуни. Тут мы уселися в спокойную нетычанку[59 - Нетичанка – бричка з плетеним кузовом.] Антона Адамовича, запряженную парою добрых коней, и покатилися по гладкой извилистой дорожке.
Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамычу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатилася быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина – и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.
Мне стало грустно, так грустно, как будто расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и сталось.
Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалася нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря[60 - Тобто Свято-Троiцького собору.].
Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча[61 - Ідеться про дзвiницю Варваринськоi церкви, реконструйовану в 1844 – 1845 рр.].
– Что это такое за урод торчит? – спросил я у своего приятеля.