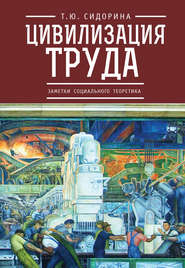По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культурные трансформации ХХ столетия: кризис культуры в оценке западноевропейских и отечественных мыслителей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Культура – это могущественное творчество созревающей души – расцвет высокого искусства, исполненного глубокой символической необходимости – имманентное действие государственной идеи среди группы народов, объединенных единообразным мирочувствованием и единством жизненного стиля.
Цивилизация – это умирание созидающих энергий в душе; проблематизм мирочувствования; замена религиозных и метафизических вопросов вопросами жизненной практики. В искусстве – распад монументальных форм, быстрая смена входящих в моду чужих стилей, роскошь, привычка и спорт. В политике – превращение народных организмов в практически заинтересованные массы, господство механизма и космополитизма, победа мировых городов над деревенскими далями и т. д. Цивилизация представляет собой, таким образом, по Шпенглеру, неизбежную форму смерти каждой изжившей себя культуры. Смерть мифа – в безверии, живого творчества – в мертвой работе, космического разума – в практическом рассудке, нации – в интернационале, организма – в механизме. Судьбы культур аналогичны, но души культур бесконечны. Каждая культура, словно Сатурн кольцом, опоясана роковым одиночеством. «Нет бессмертных творений, – пишет Шпенглер, – последний орган и последняя скрипка будут когда-нибудь расщеплены; чарующий мир наших сонат и наших трио всего только не столько нами, но и не только для нас рожденный, замолкнет и исчезнет. Высочайшие достижения бетховенской мелодики и гармонии покажутся будущим культурам идиотическим карканьем странных инструментов. Скорее, чем успеют истлеть полотна Рембрандта и Тициана, переведутся те последние души, для которых эти полотна будут чем-то большим, чем цветными лоскутами.
Кто понимает сейчас греческую лирику? Кто знает, кто чувствует, что она значила для людей античного мира?»[58 - Цит. по: Степун Ф.А. Освальд Шпенглер и Закат Европы // Бердяев Н.А. и др. Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922. С. 13.].
Никто не знает, заключает Шпенглер, никто не чувствует. Нет никакого единого человечества, единой истории, развития и прогресса. Есть только скорбная аналогия круговращения от жизни к смерти, от культуры к цивилизации.
Можно проводить параллели между теорией Шпенглера и идеями мифологических и реальных прорицателей древности, в частности автора христианского Апокалипсиса. Шпенглер почти не сомневался, что его суждения – знамения свыше, позволившие ему проникнуть в тайну «клонящейся к концу душевной стихии». Как многие до и после него, он находил подтверждение своим представлениям о «неизбежном конце» в последовательном падении древних цивилизаций – Древнего Египта, Вавилона, Рима и др. Своеобразие философии Шпенглера состояло в том, что он не был похож на романтика, обращенного вспять времен и тоскующего по умирающей культуре. Он стремился мыслить в контексте своего времени, был готов принять законы жизни и ценности цивилизации, правда, не все. Устойчивая социальная иерархия и аристократизм, свойственные эпохе культуры, на стадии цивилизации должны смениться уравниванием людей и демократическими формами политического устройства. Но порядки, наступившие в послевоенной Веймарской Германии, внешне хотя и соответствовали этой шпенглеровской мысли, не вызывали у него сочувствия.
Рассуждения Шпенглера о закате Европы встретили повышенный интерес в обществе, среди широкого круга людей, которые нашли в его идеях отзвук собственных предчувствий и тревог, порожденных войной и последовавшими за ней революциями. Книга стала бестселлером и серьезно повлияла на духовную атмосферу Германии времен Веймарской республики. Мысли Шпенглера нашли понимание также и в других странах, в том числе и тех, где почвы для особого пессимизма, казалось, не было.
Значимость работы Шпенглера признается и оценивается на протяжение всего ХХ века. Так, американский политический философ Лео Штраус пишет о том, что прежде всего именно Шпенглер оповестил цивилизованный мир о кризисе современной культуры: «В конце Первой мировой войны появилась книга под зловещим названием “Закат Европы”. Под Европой Шпенглер понимал не то, что мы по привычке называем европейской цивилизацией, цивилизацией, возникшей в Греции, а культуру, появившуюся около 1000 года в Северной Европе; кроме того, она включает в себя и современную западную культуру. Его книга представляла собой влиятельный документ, констатирующий кризис современности. Следовательно, Шпенглер предсказал закат современности. То, что этот кризис существует, очевидно даже для абсолютных посредственностей»[59 - Штраус Л. Введение в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. М., 2000. С. 68.].
Георг Зиммель: конфликт современной культуры
Одну из первых фиксаций кризисного состояния культуры можно найти у немецкого философа и социолога, одного из главных представителей поздней «философии жизни» Георга Зиммеля (1858–1918).
Философия культуры Зиммеля вобрала в себя традицию философии жизни от Шопенгауэра и Ницше до Дильтея и Бергсона. В его построениях проявляется также влияние гегелевского идеализма с его диалектическим пониманием исторического развития.
Концепцию кризиса европейской культуры Зиммель выстраивает, исходя из следующего понимания ритма культурного развития: жизнь постоянно порождает новые культурные формы, которые окостеневают, становясь тормозом дальнейшего развития жизни, а потому «сносятся» ею и заменяются новыми формами, обреченными пережить ту же судьбу. В этом движении воплощаются конфликты: содержания и формы, «души» и «духа», «субъективной» и «объективной» культур. В осознании неизбывности этих конфликтов и состоит «трагедия культуры».
Этот хронический конфликт культуры и жизни был Зиммель описал уже в 1900 г., в работе «Философия денег», но в это время он еще не сделал далеко идущих выводов относительно деструктивных перспектив этого конфликта. В работах более позднего периода «Понятие и трагедия культуры», «Конфликт современной культуры» (1918) он уже более ясно представляет специфику названного социального феномена. В современной ситуации конфликт культуры обретает, по Зиммелю, уникальное содержание: своеобразной чертой нашей культуры, подчеркивает он, стало то, что жизнь, стремясь воплотить себя в культурных явлениях и формах, обнаруживает вследствие их несовершенства основной мотив – борьбу против всякой формы вообще, т. е. против культуры как таковой. В результате этого крушение современной культуры может оказаться грандиозным и несопоставимым по своим масштабам со всем, происходившим в предшествующие периоды истории.
Анализ культурной ситуации, по мнению Зиммеля, выявляет «решительное ее отклонение от прежних путей. Жажда новых форм разрушила старые, хотя сокровенный мотив может быть усмотрен даже тогда, когда создаются новые формы, в принципиальной вражде против того, что в течение последних десятилетий общество мы живем уже вне всякого господства идеи в противоположность Средневековью, Возрождению, эпохе Просвещения XVIII столетия и… Если задать вопрос современному представителю образованных кругов, под господством какой идеи он, собственно, живет, таковой, наверное, ответил какой-либо специальной ссылкой на свою профессию. Но едва ли бы нам пришлось услышать что-нибудь об идее культуры, захватывающей и эти круги целиком и определяющей их специальную деятельность»[60 - Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Культурология. ХХ век. М., 1995. С. 383.].
Согласно Зиммелю, конфликт культуры и жизни не проходит напрасно. Правда, в современном обществе связи между прошлыми и последующими культурными формами столь основательно разрушены, что на поверхности осталась лишь бесформенная сама по себе жизнь, стремящаяся заполнить образовавшиеся пробелы. В результате этого культура начала восприниматься как некая условная, необязательная сфера бытия. Культурная стабильность и целостность оказались окончательно подорванными. Ткань культуры расползалась, порождая чувство оголенности существования[61 - Там же. С. 398.].
Как социолог, Зиммель дал и более детальную критику современного ему буржуазного образа жизни. Для последнего характерно растущее отчуждение человека от формализующихся социальных связей и культурных феноменов. Только в индивидуальной сфере сохраняется способность жизни к творчеству и автономии, поэтому в таком отчуждении проявляется и возможность определенной свободы.
Теодор Лессинг: противоборство духа и жизни
Оригинальную концепцию кризиса европейской культуры, пронизанную духом глубокого пессимизма, представил немецкий философ и культуролог Теодор Лессинг (1872–1933) в книгах «Философия как действие» (1914), «История как осмысление бессмыслицы» (1919), «Европа и Азия» (1919), «Проклятая культура» (1921).
Культура, по мысли Лессинга, возникает и развивается как прогрессирующее доминирование «искусственного» начала (духа) над спонтанным «естественным» состоянием (жизнью): «Когда мы говорим о культивировании растений и животных, культуре земледелия или тела, мы всегда подразумеваем одно и то же: рациональный уход и управление, подавление природного и инстинктивного, победу духа над жизнью»[62 - Lessing T. Die verflchte Kulur. Munchen, 1921. S. 11.].
Это положение, относящееся ко всей истории человечества, наиболее зримо проявляется в буржуазной культуре с ее рационализмом и утилитаризмом. Западное буржуазное общество подводит природное, жизненное начало к полному истощению. Культура извращает природу, делая ее мертвым механизмом. Причем этот процесс, по мнению немецкого философа, стал необратим, поэтому пессимизм – единственно возможное продуманное отношение к создавшейся жизненной ситуации.
В современном ему обществе, согласно Лессингу, искусственные и рационализированные связи и институы преобладают над естественными формами совместного проживания людей. Вторжение в эти органические общности упорядочивающего и рационализирующего духа Лессинг оценивает как трагический процесс, под влиянием которого происходит атомизация общества и возникают организации, в которых одни индивиды легко заменяются другими: «Любое общество распадается на независимые Я в той степени, в какой оно превращается в целесообразно огосударствленное и машиноподобно организованное социальное образование. Организованное и органическое всегда различается тем, что в искусственно созданных структурах отдельные элементы при определенных условиях взаимозаменимы, в живых же организмах элементы незаменимы»[63 - Lessing T. Philosophie als Tat. Guttingen, 1914. S. 202.].
Тенденцию индивидуализации социальной жизни и подчинения ее искусственным социальным институтам Лессинг связывает с историей западного христианства и возникавшей в его лоне капиталистического общества. Хотя он и признает, что общество такого типа представляет собой качественно более сложное образование, чем род и семья, однако не считает его более ценной и высокой формой жизни. Об этом свидетельствует безудержное распространение в буржуазном обществе стремления к успеху и наживе, поощрения в общественном мнении карьеризма и конформизма. В таком обществе все отношения людей пронизаны завистью, лицемерием, стремлением к подавлению и насилию. Причем все это приобретает институциализированные формы, поскольку вполне соответствует природе порождающего все эти феномены общества.
В чем же Лессинг видит выход из кризиса? В культуре Запада он уже не находит основ для этого, даже в религиозном фундаменте западной культуры, поскольку, с точки зрения Лессинга, и капитализм, и взаимосвязанные с ним наука и техника являются порождениями христианского мировоззрения. Поэтому он обращает свой взор на Восток. Хотя Азию уже затронула западная цивилизация, восточное мировоззрение, и прежде всего буддизм, сохранили примирение духа и жизни, безвозвратно утраченное Западом. Философ не был, конечно, столь наивным, чтобы считать, что западные общества могут отказаться от своего типа цивилизации. «Паломничество на Восток» он рассматривал как переориентацию сознания отдельных личностей. Прежде всего, нужно отказаться от атомизма и индивидуализма, которые пронизывают все – от практической жизни и экономического поведения до морали и философских систем. В западном мире все является лишь отражением самоутверждающегося Я: «Бытие – Я, Бог – Я. Действительность – Я. Так мыслят в Западной Европе. В Азии же действительность представляет собой общину и образ»[64 - Lessing T. Europa und Asien. Munchen, 1939. S. 345.]. Восточным началам и буддизму под силу обновить ветшающую европейскую культуру, примирить человека с природой и самим собой.
Альфред Вебер: судьба Европы
На этот вопрос пытался ответить немецкий социолог и теоретик культуры Альфред Вебер (1868–1958). В 1924 г. в Берлине был опубликован сборник его статей «Германия и кризис европейской культуры», в котором, по словам самого автора, он подвел итоги многолетних размышлений о судьбе Европы после Первой мировой войны.
Свою концепцию культуры Вебер впервые изложил в работе «История культуры как культурсоциология» (1935). В основе теории культуры Вебера лежат три исходных постулата, в качестве которых он избирает три составляющих тотального исторического процесса – культурную, цивилизационную и собственно социальную. Культура выполняет в нем смыслообразующую роль. Цивилизация, – которую А. Вебер в отличие от О. Шпенглера рассматривает не как нисходящую фазу эволюции каждой из культур, а как одно из трех изначальных определений исторического процесса, обеспечивает преемственность и поступательность исторического процесса, что осуществляется непрерывным развитием науки и техники. Наконец, социальный аспект истории являет собой ее телесную фактуру, тот самый материал, из которого она выстраивается в процессе жизнедеятельности людей, приводящих ее в движение, чаще всего не представляя, куда течет этот социально-исторический поток и какое место в нем занимают они в каждый данный «миг» его течения[65 - Lessing T. Europa und Asien. Munchen, 1939. S. 546.].
Если представить пространственное распложение выделенных изменений исторического развития, то вертикальная ось – это культурные измерения в истории, горизонтальная – это ось цивилизации. Социальная ось – очерчивает предметно-телесную область, которая подлежит культивированию и цивилизации.
Но встречаются все три оси чрезвычайно редко, их встреча является неким ориентиром истории.
Размышляет А. Вебер и о причинах кризиса, проблемах, которые выявились уже задолго до начала Первой мировой войны и были порождены XIX столетием. Наряду с высоким совершенством его технических и интеллектуальных достижений, интенсивным становлением новых возможностей и форм деятельности выявилась напряженность жизненного пространства, на котором все это создавалось. Система европейской гармонии до последней трети XIX в. находилась в безграничном поле силового воздействия. Но это внутреннее равновесие было возможно до тех пор, пока Земля практически не имела границ. Но вслед за окончательным освоением земного шара и заполнением его массами европейцев, его вовлечением в технизированную систему европейского хозяйствования и обращения товаров, за этим кратким, отмеченным уже печатью духовного измельчания и материалистичности заключительным периодом примерно в 1880 г. наступило пробуждение на как бы уменьшившемся земном пространстве, на котором повсюду сталкивались экспансионистские тенденции, даже там, где раньше они не знали препятствий, а именно за пределами Европы.
«Было бы слишком просто, – пишет А. Вебер, – назвать это время лишь периодом перехода от свободной, экспансионистской конкуренции к монополизации и перераспределению, слишком поверхностно объявить его эрой империализма, стремящегося к переделу мира с позиции силы. Но, как бы то ни было, столкнув выросшие до гигантских размеров экономические силы в борьбе за передел мира и рынков сбыта, побудив государство стать вспомогательным средством проведения такой политики, выдвинув на передний план в государстве и межгосударственных отношениях материальные интересы, эта эпоха привела к таким последствиям, которые сегодня, внешне господствуя над миром, определяют также внешнюю и внутреннюю судьбу прежних европейских силовых центров»[66 - Вебер А. Указ. соч. С. 286.]. Эта борьба привела к тому, что государство и общественная жизнь оказались подчинены материальным интересам. А это, по мнению Вебера, затронуло не только государственную, но и духовную жизнь Европы. По мере того как материальное начало побеждало и борьба за его интересы приобретала решающее значение, исчезала вера в достижение гармоничного равновесия и общая субстанция европейского духа начала расползаться и исчезать.
Выход из создавшегося положения философ видит в новой организации и восстановлении динамики европейского духа. Но как это может произойти, ему еще не вполне ясно. Прежде всего, следует понять внутреннее содержание того, что нужно отстаивать и восстанавливать; знать, как в условиях по-новому организованной Европы использовать ее духовный потенциал, на котором она до сих пор основывалась; как поступить с динамической энергией европеизма, его стремлением к бесконечности, с которым он появился на свет в облике романо-германской Европы. Невозможно и не нужно избавляться от этих динамических свойств европейской сущности, сколь бы разрушительно они ни действовали в этом кризисном контексте. Иначе жители Европы перестанут быть европейцами, оставаться самими собой.
Европейцы могут сосуществовать друг с другом и с иными историческими общностями в новых условиях земного пространства и бытия только в том случае, если им удастся придать названным свойствам и силам такое направление, содержание и формы, в которых они перестанут оказывать разрушительное влияние вовне, но и, будучи обращенными внутрь, не разорвали бы их самих. Это станет возможным, считал А. Вебер, если удастся установить приоритет духовного начала над внешними силами, при этом помня об открытых эпохой гармоничного развития Европы закономерностях и правилах уравновешивания сил, пусть даже способы применения и реализации этих закономерностей и правил окажутся иными. Главное – сделать духовное начало столь сильным, чтобы оно вновь направляло ход развития. Но это может произойти только тогда, когда европейцы сумеют обратить внутрь склонность к внешней экспансии, преобразовать стремление к бесконечности из внешнего во внутреннее свойство. Это не означает попытки превратиться из людей деятельных, активных в пустых мечтателей, отвлеченных метафизиков, тяготеющих к саморефлексии. Это поворот к углублению и непрерывному совершенствованию того, с чем каждый народ приходит в мир как духовная целостность и одновременно в своей культурной особенности.
Но именно состояние этого духовного ядра вызывает у А. Вебера тревогу. Экономика, политика и инструментальный разум цивилизации заслонили и отвратили людей от культурного движения, в результате чего европейское общество сбилось с предназначенного ему пути. Соответственно и выход из кризиса философ предлагает искать в обновлении, новом понимании издавна присущей европейцам культурной идеи: «Смысл этого может состоять только в том, чтобы признать духовные силы постоянно обновляющимися… признать духовные силы не для того, чтобы ввергнуть во всеобщий хаос все европейские нации и тем самым Европу, но, напротив, для того, чтобы они оказались в состоянии достойно осуществить свою задачу – вернуть Европу европейцам и каждый европейский народ – самому себе, чтобы они все время заново обретали себя в дальнейшем ходе истории. Такова цель, которую ставит перед нами сегодняшний европейский кризис»[67 - Вебер А. Германия и кризис европейской культуры // Культурология. ХХ век. М., 1995. С. 295.].
Так или иначе, Вебер видел возможность преодоления кризиса европейской экономики и культуры: «Я верю в возрождение прежней динамики духовного развития. Европа опять восстанет из войн», – писал он во введении к сборнику «Германия и кризис европейской культуры».
Йохан Хейзинга: прогрессирующее разложение культуры
Существует мнение, что оценивая кризисные ситуации, историки обычно проявляют сдержанность и мудрость, поскольку профессионального опыта знают, что человеческая жизнь далека от совершенства, что общества нередко переживали трудные времена и, тем не менее, находили выходы из них. Пожалуй, таков общий тон вышедшей в 1935 г. книги нидерландского историка Йохана Хейзинги «В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей эпохи». Хейзинга (1872–1945) знаменит прежде всего замечательным исследованием «Осень Средневековья» (1919) и блестящей работой по философии культуры «Homo ludens» (1939), однако тревожная ситуация предвоенного времени заставила его оторваться от академических тем и заняться злободневными проблемами. Любопытно, что его книга с диагнозом эпохи стала своего рода бестселлером: за несколько предвоенных лет она переиздавалась семь раз и была переведена на многие европейские языки.
Хейзинга проявляет интерес к переломным, «зрелым и надламывающимся» эпохам, где сталкиваются традиции с обновленческими тенденциями в жизни общества (например, Реформация, Ренессанс, ситуация в Нидерландах в XVII в.). Хейзинга не без влияния Шпенглера обращается к типологизации культур, морфологическому анализу культурно-исторических эпох, развитию утопической мысли в истории цивилизации (мечта о «золотом веке», идеал возврата к природе, евангельский идеал бедности, идеал рыцарства, идеал возрождения античности и др.)[68 - См.: Современная западная философия: словарь. М., 2000. С. 488.].
Говоря о ситуации в европейской культуре начала ХХ в., Хейзинга, как и другие мыслители, отмечает, что идет разложение культуры, мир живет в ожидании катастрофы. Уже в начале своей книги он пишет, что очень многие люди не утрачивают надежды, что они готовы сообща трудиться над сохранением культуры. Для этого нужно ясно представлять себе, какие именно болезни охватили европейскую культуру, что в ней нуждается в защите и в обновлении: «Если эта цивилизация будет спасена, если она не потонет в веках варварства, но, сохранив свои высшие ценности, доставшиеся ей по наследству, перейдет в обновленное и более прочное состояние, тогда совершенно необходимо, чтобы ныне живущие отдавали себе отчет в том, насколько далеко зашла угрожающая этой цивилизации порча»[69 - Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 245–246.].
Хейзинга отдает должное Шпенглеру. Именно его «Закат Европы» послужил сигналом для множества людей к осознанию серьезнейших пороков и недугов, охвативших западную культуру. Однако он полагает, что «мрачная теория» Шпенглера дает неточную картину происходящих событий. Причину этого историк видит в том, что шпенглеровская схема перехода от культуры к цивилизации уходит корнями в «наивный романтизм». По его мнению, «тот путь, которым шла последние семнадцать лет западная культура со времени выхода в свет шпенглеровского “Untergang des Abendlandes” (“Закат Европы”), совсем не похож на тот, который должен был привести ее к периоду Zivilisation. Во всяком случае, хотя общество и развивалось в этом направлении, повышая техническую точность и холодное исчисление ожидаемого результата, но в то же время человеческий тип становился все менее дисциплинированным, все более подверженным эмоциональной реакции. Можно было бы скорее сказать, что мир являет собой картину шпенглеровской Zivilisation плюс изрядную долю безумия, обмана и жестокости, соединенных с сентиментальностью, которой Шпенглер не смог предугадать»[70 - Там же. С. 354.].
Чтобы поставить собственный диагноз духовным недугам эпохи, Хейзинга пытается последовательно фиксировать те деструктивные процессы, которые охватили различные уровни и сферы европейской культуры. Он начинает с ее высших этажей – науки и философии. Здесь его прежде всего тревожат резкое снижение рационально-критических установок и прогрессирующая утрата способности к различению истины и лжи. Яркими симптомами этого являются распространение и успех у публики всевозможных расовых и геополитических теорий, популярной психоаналитической литературы, выдающей себя за серьезные исследования.
Это нашествие псевдонауки, псевдофилософии, а то и просто вульгарных суеверий, получившее к тому же такие новые технические средства распространения, как массовые газеты и радио, погружает общество в нарастающий океан болтовни, поверхностных, но опасных «учений» и «концепций», отравляющих и деморализующих сознание людей.
Вместе с тем в культуру внедряются деструктивные представления: примат практики и воли над разумом, культ жизни в ее непосредственно-витальных формах, превознесение идеалов героизма и борьбы над трезвым расчетом и толерантностью. Кульминации это достигает в «культе солдата» и тоталитарного коллективизма, который проповедовали теоретики консервативной революции в Германии.
Завершая обзор болезней культуры, Хейзинга пишет: «Мы переживаем сейчас самую серьезную полосу – целый комплекс опасностей угрожает нашей культуре. Культура находится в состоянии ослабленного иммунитета против инфекции и интоксикации – состояние, сравнимое с опьянением. Дух расточается впустую. С поступательным движением культуры неудержимо девальвируется слово (эта разменная монета мысли), распространяясь все легче и во все возрастающих масштабах. Прямо пропорционально обесценению печатного или устного слова растет безразличие к истине. По мере того как иррациональная позиция духа завоевывает пространство, границы ложных концепций в любой области раздвигаются до обширной зоны. Немедленная гласность, подстрекаемая меркантильным интересом и погоней за сенсацией, раздувает простое несходство мнений до масштабов национального бреда. Идея дня требует сиюминутной реализации. Между тем великие идеи утверждали себя в этой жизни всегда очень медленно. Над всем миром висит облако словесного мусора, как пары асфальта и бензина над нашими городами. Сознание ответственности, на первый взгляд усиливаемое лозунгами героизма, оторвалось от своих корней в личной совести и поставлено на службу коллективизму, любому коллективному образованию, стремящемуся возвести свой ограниченный взгляд на мир в канон спасительного учения и навязать свою волю»[71 - Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 349.].
Переживаемые культурой катаклизмы Хейзинга не без некоторых колебаний обозначает как варваризацию: «Под варваризацией можно понимать культурный процесс, в ходе которого достигнутое духовное содержание самой высокой пробы исподволь заглушается и вытесняется элементами низшего содержания… Бастионы технического совершенства, экономической и политической эффективности ни в коей мере не ограждают нашу культуру от сползания в варварство. Варварство тоже может пользоваться всеми этими средствами. Оснащенное с таким совершенством, варварство станет только сильнее и деспотичнее»[72 - Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. С. 350–351.].
Вытеснение рациональности мистикой, подлинной науки – псевдонаукой и современной магией, логоса – мифом вызывает у Хейзинги острое чувство тревоги. Возможно ли преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию?
В отличие от многих социальных теоретиков того времени мыслитель не верит, что цивилизацию можно спасти с помощью решительных и тотальных конструктивистских проектов, вроде социалистического планирования или же германского упорядочения (Ordening). Они способны лишь усугубить новое варварство и окончательно подорвать основы европейской культуры. Опираясь на знание мировой истории, Хейзинга считает, что развитая культура может существовать лишь на базе индивидуальной инициативы и ответственности, частной собственности и свободы мышления и действия.
К сожалению, Хейзинга не дожил до краха того духовного затмения, которое охватило Европу. В 1942 г. ученый с мировым именем, ректор Лейденского университета был помещен нацистами в качестве заложника в концентрационный лагерь, где в феврале 1945 г. умер.
Арнольд Тойнби: кризис цивилизации западного христианства
Другой представитель исторической науки – Арнольд Тойнби (1889–1975) – автор всемирноизвестного двенадцатитомного труда «Исследование истории» (1934–1961). В этой работе ученый на основе систематизации огромного фактического материала излагает вслед за Шпенглером собственную систему философии истории, пытаясь уяснить смысл исторического процесса.
Блестяще образованный, выросший и воспитанный в атмосфере незыблемых авторитетов Тойнби испытал в молодости влияние поздних работ А. Бергсона, принесших ему острое переживание ненадежности, переменчивости всего происходящего. Тойнбы много путешествовал и видел следы исчезнувших культур. В самый канун Первой мировой войны он еще не соглашался с тезисом, что культуры, как люди смертны, и что это произойдет с культурой Европы. Но к концу войны картина изменилась. Влияние трагического опыта Первой мировой войны сказалось в том, что все творчество Тойнби пронизывает ощущение возможной гибели всех тех завоеваний разума, которые составляют богатство западной цивилизации.
Когда Тойнби исполнилось 33 года, он набросал на листке концертной программы план главного труда своей жизни. Когда же этот труд был завершен, автор объяснил его замысел следующим сравнением: «Восходящие на гору карабкаются от уступа к уступу на отвесную стену скалы то быстрее, то медленнее, легко или с трудом; иные, исчерпав силы, остаются позади, другие сохраняют бодрость и чувствуют в себе жажду достигнуть нового успеха, а немногие уже начали восхождение на следующий, еще невидимый нам уступ. Так ведут себя и все отдельные культуры. Они выступили в путь в древнейшие времена: нет пранарода, нет первого зерна, из которого они развились, все они сперва в равной мере призваны были начать культурное восхождение. И различие между ними состоит лишь в том, как они ответили на этот призыв. Всегда перед ними крутая скала – тот фон, на котором разыгрывается драма: степь или деревенский лес, океан или заболоченная дельта, вражеские нападения или жестокое господство. И все же драма всякий раз развивается по-разному. На призыв может отозваться творящая сила, – и сама эта сила становится потом новым призывом вперед, и тогда культурный рост получает все новые силы, несущие все дальше этот творческий порыв. Но иногда призыв бывает таким отягощающим, таким обязывающим, что история замедляется и колеблется: быть может, призыв превышает наличные силы, и тогда отвечающая на него культура останется в своем исходном состоянии; быть может, призыв недостаточно силен, тогда ответ последует с промедлением, вялостью, как в дремоте…