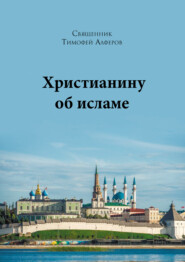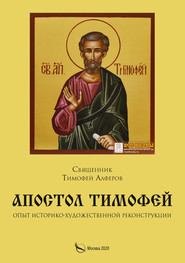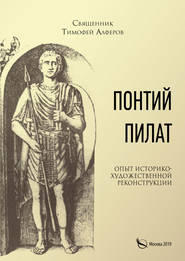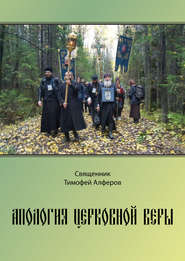По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чаем воскресения мертвых
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Болезни свои и болезни ближних, смерть ровесников постоянно напоминают о самом главном. Но и тут человек ухитряется не примечать Лес Вечности за деревьями забот. Медицинские вопросы и вопросы служения ближним отбирают все силы, в том числе умственные, а их самих становится с годами все меньше. Смерть теребит каждого из нас, все громче постукивая косой и клюкой, и мы слышим этот стук, понимаем его, что это такое, от кого и зачем. Но сам этот стук в какой-то мере провоцирует нас на отпор, как раненного Василия Теркина, замерзающего на снегу. Мы включаем защитные механизмы, мы сопротивляемся, бьемся, трепыхаемся. И хотя это по ситуации вроде оправдано, но очевидна и потеря. А она состоит в том, что мы не готовимся к вечности, не готовимся к ней целенаправленно, с применением умственных, сердечных, молитвенных сил.
Жизнь показала мне немало таких примеров: и того, как умирающий молодым о вечности думает, и того, как умирающий старым о ней не думает, хотя этот старый гораздо больше времени был верующим и церковным человеком, не каким-то блюстителем обрядов, а именно жившим внутренней духовной жизнью.
Поэтому, естественно, как человек, общающийся преимущественно с пожилыми и умирающими, я хотел бы именно им в первую очередь предложить свой лесной пенек. Я не осуждаю пожилых за все замеченное, понимаю, что, несмотря на парадоксальность, перед нами естественный ход событий. И тут не тот случай, когда, надавив на совесть, призвав и построив в ряды, пастырь мог бы оказывать влияние. Здесь совсем другое. Здесь не напрягаться нужно и не напрягать другого, здесь нужно отдохнуть от напряжений. Здесь нужно снимать напряжения. Для этого пеньки в лесу и придуманы.
Именно с годами меня самого все больше захватывает то же самое искушение. Можно сказать, все лучшие годы были посвящены именно проповеди о вечности, о том, как Иисус Христос нам ее открыл. Но чем больше в это вкладываешь собственных сил, тем больше почему-то охватываешься общей закономерностью: надо как-то сегодня оказываться полезным пожилым и умирающим, а это означает суету и беготню. И одна за другой приходят мысли: а что если там просто откроется пустота? Не было ли все мое прошедшее служение слову о вечности всего лишь психотерапией для умирающих и не более? И даже не для них, а для самого себя?
Когда такие мысли приходят, как собственные или под видом собственных, уже не тянет осуждать кого-то другого за неверие. Но все-таки, согласитесь, это серьезный повод к раздумьям.
И вот сейчас, пока ни самого еще болезнь не свалила на одр, ни из ближних пока, на какой-то период, на одре еще никто не лежит, – давайте же присядем и отдохнем.
Часть 1
Посмертие в библейских канонических книгах
Но отдохнем мы, конечно, с Книгой в руках. Откуда "есть-пошла" сама мысль о каком-то посмертном бытии?
Н. Т. Райт перелопатил в своем труде книги разных народов, окружавших Израиль, и нигде не нашел идеи воскресения из мертвых. Как он выразился, смерть – это улица с односторонним движением. Люди уходят в ту страну, из которой на землю возврата нет. Они никогда и ни в каком виде не вернутся назад. Они в очень редких случаях в виде неких призраков или теней могут являться живущим на земле и передавать им некую информацию, но это никак не предполагает возвращения. Не нашел Райт в древних книгах и того, чтобы посмертная жизнь в языческом мире считалась бы отрадной, чем-то утешительным после земных страданий.
Отметим, что древняя египетская религия целиком погружена в культ мертвых. Египетская "Книга мертвых" там была своеобразной библией. Построение человеку относительно благополучного посмертия осуществлялось через подготовку роскошного погребения. Живые люди (и в частности, порабощенные евреи) приносили мертвым такие невыразимые материальные и трудовые пожертвования, которые никогда не воздавались живым. Дары плодов земных тоннами погребались в могилах, между тем, как живым людям от этих богатств доставались лишь крошки.
Удивительно ли после этого, что Израиль возненавидел эту отвратительную религию смерти и возжелал иметь религию жизни!
И самое главное убеждение евреев (и вообще, людей библейского мира, таких, как Иов и его друзья) заключалось в том, что мир, сотворенный Богом, является хорошим миром. В библейском монотеизме, вообще, три главных идеи: во-первых, Бог Един, во-вторых, Он есть Творец мира, в-третьих, Он есть Творец хорошего мира, а не плохого. Нигде в языческих космогониях этого нет. Бог там не един, мир возникает в результате эволюционно-диалектического процесса, столкновения неких стихий (или борющихся богов), и в итоге мир получился крайне несовершенным. И это еще мягко говоря.
Последнее наиболее важно. И это подчеркивает Райт.
Материальный мир в библейском понимании таков, что он достоин Божией заботы. Несмотря на то, что мир этот испорчен грехом и смертью, он все-таки подлежит и восстановлению, и исправлению. Частью этого мира является человеческое тело, которое тоже есть прекрасное творение. И поэтому (забежим вперед) только в иудейской традиции проповедуется воскресение из мертвых. Воскресшие люди придут в своих телах, хотя преображенных и очищенных.
И все это именно потому, что материальный мир – хотя бы только по своей идее – вполне достоин своего прекрасного Творца. Таково библейское понимание.
А в языческих религиях воскресения мертвых во плоти не просматривается и не предполагается. Все материальное здесь, как потребляемое смертью и тлением, не считается достойным божественного внимания. Со времен Платона (но не только у него) человеческое тело во всей греческой философии (и не только в греческой) почитается темницей для души, освобождение из которой есть добро. В результате хоть что-то утешительное по смерти, в виде аида, нирваны или чего-то в этом роде, видится лишь для бессмертной души, которая нетленна лишь потому, что не материальна. Загонять эту душу обратно в темницу материального тела представляется делом не только абсурдным, но и, так сказать, безнравственным, злым. Скорее наоборот, в самоубийстве античный философ не видел ничего предосудительного, а порою совершал это сам или склонял к тому других, видя в смерти тела освобождение души, т. е. некий радикальный шаг к добру.
Вот коренное различие между иудейским и языческим отношением к посмертию. И восходит оно именно к самой первой странице Библии, где написано, что сотворенный Богом мир был весьма хорошим (Быт.1, 31).
Вот это различие нам нужно хорошенько запомнить на будущее, ибо возвращаться к нему придется не раз. Райт разбирает разные античные воззрения, начиная с Гомера, и его цель состоит в том, чтобы показать, что языческий мир времен Иисуса Христа был бесконечно далек от идеи проповедовать о том, что некий выдающийся человек, современник событий, умирал, а затем «воскрес из мертвых» в том смысле, что обрел блаженное бессмертие именно таким способом, то есть, развоплощением и освобождением от темницы тела, а затем оживлением этого же тела. Разбор приводится достаточно широкий, чтобы прийти к здравому историческому выводу: тогдашний языческий мир историю про воскресение Иисуса Христа, как оживление в теле, придумать бы точно не мог. Еще менее он мог бы привлечь к этой идее хотя бы каких-то последователей.
Что же касается Израиля, то и в нем мысль о воскресении мертвых была далеко не первичной, не всеохватной, была достаточно поздней. Израиль к этой мысли пробивался целыми веками и очень не простым путем. Далее мы и постараемся осмотреть именно этот путь, оставив Гомера и Книгу мертвых любознательным читателям Райта.
В упрощение нашей задачи Райт рассмотрел все те места Библии, где можно найти хотя бы какие-то мысли о посмертных воздаяниях, – благо она такими местами явно не перегружена. Имеет смысл остановиться на каждом из этих отрывков чуть подробнее, а затем собрать во едино свои наблюдения.
Иов, глава 19
Мы начнем в хронологическом порядке написания библейских книг, осмотрев сначала именно книги канонические, а затем остальные.
И первым по времени источником, несомненно, является Книга Иова. Согласимся с доводами Д. Щедровицкого и Е. Авдеенко о древности этой книги. Эпилог книги в варианте 70 толковников (греческий перевод III века до Р. Х.) свидетельствует, что Иов был пра-правнуком Авраама, а значит, жил задолго до Моисея и до становления Израиля как народа. К тому же происходил Иов не по линии Иакова (Израиля), а по линии его брата Исава. В книге нет никаких намеков на Израиль, на закон Моисея, нет имен известных библейских патриархов. Единственное библейское, что в ней есть – это библейское мировоззрение. Книга Иова обрисовывает нам разных животных, и каждая такая картина служит к прославлению Творца, Его могущества и заботливости. Хотя, разумеется, животные там не суть главные герои, книга совсем о другом. Но она, не менее первой главы Бытия, прославляет нам именно Творца, создавшего хороший мир. Креационисты, люди отстаивающие идею сотворения мира, часто цитируют Иова, эта книга у них (у нас) в большом почете.
Удивительно оно или нет, но именно в этой книге мы встречаем и первое свидетельство о воскресении, причем свидетельство с надеждой. Согласитесь, что в таком вопросе надежда – это самое главное! Итак, читаем:
А я знаю, – говорит Иов, – Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей! (Иов. 19, 25–27).
Во всей книге отрывок уникален, ничего подобного больше не повторяется. Разумеется, возникает вопрос: аутентичен ли отрывок, соответствует ли он оригиналу, или является позднейшей вставкой? И второе: действительно ли Иов верит в телесное воскресение мертвых?
Что касается первого вопроса, то он не столь уж важен. Если бы речь шла об историческом событии, оказавшем на судьбы мира определенное влияние, то действительно, стоило бы подумать: нет ли оснований подозревать подделку в рассказе. Но перед нами все-таки нравоучительная поэма. Изначально она и не планировалась, как историческая хроника. Весь сюжет, композиция, герои построены так, что речь должна идти о литературном произведении, а не об исторической хронике. К тому же, в усугубление трудности, следует признать, что в церковной Библии, в переводе 70, Книга Иова имеет много мелких, но достаточно принципиальных отличий от канонического масоретского текста. В тексте 70 все описываемые животные показываются как некие символы сил зла. Оно понятно: в Александрии, где осуществлялся перевод 70, люди тяготели к аллегорическому прочтению. Поэтому бодрый библейский креационизм исходного варианта во многом окрашивался более поздней апокалиптикой и\или демонологией. (За демонологию первой главы, кстати, Книгу стараются датировать более поздним сроком, когда эти вопросы стали актуальны в Израиле, но если даже пари Бога с дьяволом из первой главы выбросить, поэма в своей сути потеряет очень мало. Поэтому, вполне допуская "дьявольскую вставку" в первую главу, мы не получаем оснований саму книгу сделать поздней по времени).
Что же сказать о ключевых словах 19 главы? Являются они поздней вставкой или нет, суть меняется мало. У нас все-таки нет оснований утверждать, что Иов верит в воскресение мертвых. Ведь и после 19 главы он продолжает и свои жалобы и желание судиться с Самим Богом. И нигде больше не высказывает никаких надежд на посмертие. Хуже того: есть там слова Иова, свидетельствующие, что он, похоже, не видит за гробом ничего: а человек умирает и распадается, отошел и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает, – так и человек, ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится, и не воспрянет от сна своего (Иов, 14, 10–12). Финал книги тоже не рисует Иова, увенчанным нетлением в Царстве Божием. Более того, если внимательно вчитаться в приведенные три строки о восстановлении кожи, мы увидим иное. При желании эти строки можно прочесть так, что к последнему дню искушения, испытания Иова Искупитель восстановит распадающуюся кожу его, то есть, исцелит его на земле, исцелит именно болезнь его кожи. Без всякого перехода через смертный порог. Иными словами, Иов просто предсказывает свое выздоровление. Предположение тем более вероятное, что финал книги показывает именно это: Иов выздоровел и приобрел вдвое больше богатств на земле, чем было отнято у него.
И все-таки, верующая душа не может во всем согласиться с таким "саддукейским" прочтением!
Недавно видел я в провинциальном книжном магазине плакат с цитатой неизвестного мне автора, что хорошая книга дает читателю нечто большее, чем сам автор хотел бы вложить в нее. Если такое можно подметить о вполне светских книгах, то не тем ли более о книгах священных! Понятно, что у каждой библейской книги есть автор, иногда есть подозрение, что их двое (Исаия), почти никогда нет сомнений, что после автора над текстом работали редакторы. Характер автора отражается на книге. Его мировоззрение, его надежды и горести – все это личное в каждой библейской книге есть. Но иногда в книгах Библии встречаются такие мысли, которые сам автор (и это почти очевидно) едва ли разделяет сам, или уж точно не мучится этими мыслями, не они в центре его повествования или увещания. Тем не менее, эти мысли есть, они выражены очень прямо, очень ярко и берут читателя за самое сердце. Разве это не наталкивает на мысль, что за библейским автором стоял более важный Автор, и пишущую трость Он иногда направлял по своим неизведанным путям?! Конечно, не стану спорить, такое случалось не столь часто. Бог, как Соавтор, проявлял деликатность, порой явно большую, нежели последующие редакторы библейского автора. Пусть так. И все же, Соавтор у Иова и у других библейских авторов явно был. Он все держал на контроле, а читателям – в том числе и нам с вами – оставлял в книге свои закладки.
Давайте, кстати, так их и назовем, – эти цитаты, подобные приведенной. Можете заложить в своей Библии все те места, что мы разберем далее – и поверьте, вы в этих закладках не слишком запутаетесь. В Ветхом Завете их будет не так много.
Потому что главный Автор деликатен, и Он не спешит.
В итоге Книга Иова сказала нам больше, нежели хотел сказать ее автор.
Пора перейти к следующей закладке.
Осия, 13, 14
Не помню ни одного пасхального послания от патриархов или епископов, где бы ни цитировались ниже приводимые слова. Цитирует их и апостол Павел в знаменитой главе о воскресении мертвых, цитируют их святые отцы в пасхальных словах. Они стали знаменем, они стали самой расхожей пасхальной цитатой:
Смерть, где твое жало! Ад, где твоя победа! (Ос. 13, 14).
Но не поленимся раскрыть книгу Осии и прочесть всю главу. Оптимизма, поверьте, у вас заметно поубавится.
Пророк обличает Израиль и отдельно колено Ефремово за разные беззакония, за измену Богу. Об этом речь идет и до приведенной закладки, и тотчас после нее, до скорого конца самой книги. Предсказывается иссыхание источника Ефрема (13, 15), предсказывается опустошение Самарии (14, 1). В общем, грустная картина, никак не выходящая за рамки событий этого мира, его посюсторонних событий, притом не самых светлых.
В итоге весь смысл закладки в ее контексте сводится к тому, что кто-то из израильтян на некоторое время будет защищен от временной смерти. Это все.
Но слова эти не прошли не замеченными. Трудно поверить, будто Павел сам лично, раскапывая одну пророческую книгу за другой, нашел бы эти две строчки. Скорее, эти строки уже вошли в традицию прочтения Писаний, в традицию, современную Павлу и предшествующую ему. Это, скажем теперь определенно, традиция фарисеев. Исторически фарисеи суть те евреи, которые поверили в воскресение мертвых, и основания своей вере они искали в Писаниях. О них мы скажем подробнее дальше, а пока поделюсь лишь таким соображением. Сам Павел уверовал в Иисуса Христа не иначе как на основе своей веры в грядущее воскресение мертвых. По этой же причине среди ранних христиан мы встречаем бывших фарисеев (Иосиф, Никодим, Гамалиил), а среди других иудейских партий – вроде бы, никого, примкнувшего к "партии Иисуса". Впрочем, не станем забегать вперед.
Перед нами опять та же история. Фраза пророка обогнала его собственную мысль, и стала формулой. Причем, стала таковою еще до христианских времен.
Исаия, главы 25 и 26
Еще одним пророком до вавилонского плена был Исаия. Книгу Исаии принято разделять на две части: до 40-й главы – первая, написанная до пленения Израиля, а остальное – вторая. Автор первых сорока глав занят, главным образом, отступничеством Израиля от своего Бога – и потому справедливо считается ранним пророком, совершавшим свое служение при царях Иудейских: Озии, Иофаме, Ахазе и Езекии, как и надписал в начале своей книги. Автор оставшихся глав говорит о возвращении Израиля, о грядущей славе Иерусалима и даже поминает персидского царя Кира по имени, и потому считается другим пророком, жившим уже после плена. В любом случае, мы рассматриваем Исаию первого, раннего пророка.
Его чаяния воскресения мертвых выражаются в той же форме, как у Иова. Это тоже две тоненьких закладки: пророческие фразы, не связанные со своим контекстом и не выражающие четко обоснованную позицию автора.
Вот они. Первая закладка.
Поглощена будет смерть на веки, и отрет Господь слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле (Ис. 25, 8). Спустя века процитирует это место почти дословно Тайнозритель Иоанн – см. Откр. 21, 4.
Вторая закладка лежит на соседней странице. Ее придется привести чуть подробнее. Отметим, что православному читателю именно эти строки должны быть знакомы. Еще в глубокой древности христианские монахи из всей Библии выделили десять песен – поэтических отрывков, которые со временем легли в основу канона. Канон на утрени положено читать почти весь год, опираясь на стихи именно этих песен. Так вот, пятая из десяти песен и содержит приводимый ниже отрывок, и хотя бы по пятницам в великом посту она читается по всем церквам. Поэтому в скобках приведем знакомый читателю славянский вариант, как водится, несколько отличающийся, ибо переведен с текста 70:
Мертвые не оживут, рефаимы не встанут, (мертвии живота не имут видети, ниже врачеве воскресят), потому что Ты посетил и истребил и, и уничтожил всякую память о них… Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были и мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились – и рождали как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, (воскреснут мертвии и восстанут сущии во гробех и возвеселятся иже на земли), ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов (земля же нечестивых падет) (Ис. 26, 14–20).