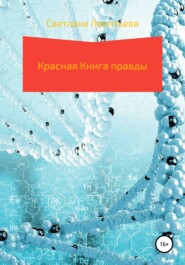По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Молвинец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
где же осколки небесных зеркал?
…Мне моё слово, как будто бы шок.
О, я такой выплетаю шёлк,
что Маргилан в каждом сне умирал!
Нынче все стены мне – Иерихон,
нынче любой плач мне, что высота,
нынче Парнас мне – беда и заслон,
каждую фразу снимаю с креста!
И говорю: «За какие грехи
дар твой отъят? Ты не пишешь стихи!»
Ты, поэтесса, не пишешь, ты спишь!
Вот погляди: чан глубок, в нём кишмиш.
Я так себя отдаю на вино.
Всю, сколько есть и неведом мне страх.
О, как в давильне пьяняще-пьянО,
о, как в давильне сладшайше-хмельнО:
вы на моих потанцуете костях!
Люди! Мной столько разъято небес!
Люди! Мной вплавлено столько желез!
Столько наскальных рисунков – владей,
ей, поэтессе не пишущей, ей,
наглухо заткнутой, словно кувшин
обезволшебненный в мире пустот -
обесхоттабленный маленький джин.
Тот, кто не пишет несчастней всех тот.
Сам себе кладбище – холод и лёд.
Вам поэтессам, кто пишет стихи,
вам, кто терзал меня больно, но всё ж
все я прощу наперёд вам грехи,
только, прошу, не жалеть мёртвый дождь!
Только, прошу, не жалеть мёртвый снег!
Высказать правду сегодня для всех.
Высказать правду и снова, и впредь
на сто веков высочайших запеть!
***
От сентябрьских птиц знобит в апреле.
Вот я в лес захожу, где когда-то кукушки
говорили со мной на моём акварельном,
на льняном языке! Кружева и коклюшки
были поводом плача и поводом песни.
Я слова, словно сети, над миром вздымала.
А сентябрьская птица – безкрыла, безвестна!
Полуптица она, полугриб – мох и плесень.
Все листы изжевала, и всё-то ей мало!
Хоть не в сердце, так в пятку – пята Ахиллеса!
Так цепляется старое, ветошь каркасов.
Ах, Алёшенька, братец ты наш, Карамазов!
Ах, Алёнушка, будет ли пьеса?
В самом чреве пореза – иди и повесься!
В этом мёртвом, сентябрьском узле,